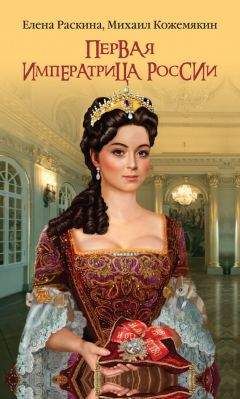Между тем Федор Иванников крепко и основательно, как привык делать все в своей жизни, решал с Катариной вопросы веры и религии.
— Примешь ли ты, Катаринушка, нашу святую православную веру, чтобы стать моей честной супружницей перед Господом Богом нашим и миром крещеным?
— Если это надо, чтобы быть с тобой, Феденька, я приму твою веру! — проворковала Катарина. — Ведь Бог не покарает меня, если я буду иначе креститься и иначе петь псалмы, когда стану молиться, чтобы он послал нам счастья и здоровеньких детишек?
— Бог, лапушка, только возрадуется, что ты войдешь в лоно соборной и апостольской церкви нашей! — уверенно заявил Федор, продемонстрировав пастору Глюку некоторые шапочные познания в богословии. — А вы, сударь, не станете ли чинить препон вашей дочери? Знайте, ежели откажете — как только границу перевалим, увозом ее увезу, окрещу у первого же попа да там же и повенчаюсь! Пущай тогда хоть сам господин фельдмаршал меня вешает!
— Катарине, увы, придется принять вашу веру и венчаться с вами в первом же православном соборе, — со вздохом сказал пастор. — Дабы сохранить свою запятнанную поспешными амурными свиданиями честь. Я сам попрошу господина Шереметева содействовать в этом браке.
— Но, батюшка, моя честь не запятнана, вернее, вовсе не так запятнана, как вы полагаете, — принялась кокетливо оправдываться Катарина. — Ну, может быть, самую чуточку! Феденька, конечно, позволял себе некоторые вольности, но не более чем целомудренные поцелуи!
— Токмо лобзания — и ничего более! — подтвердил сержант не совсем уверенным голосом.
— И этого достаточно, чтобы навсегда запятнать честь молодой девицы! — сурово заметил пастор, хотя суровость его была лишь внешней. — Извольте немедля сделать вашей даме сердца предложение, как подобает благородному воину. Дабы я, как отец сей ветреной особы, мог помолиться об освящении уз, соединивших вас, по обычаям моей святой лютеранской церкви.
Сержант приосанился, застегнул ворот кафтана и поправил портупею.
— Катариночка… Почтенная и высокородная девица Глюк! — отчеканил он таким потешным, торжественным тоном, что даже пастор, несмотря на трагизм своего положения, едва не расхохотался. — Коли я имею фортуну быть любим вами, и коли вы верной супружницей мне будете, то учините мне великий решпект! Извольте сочетаться со мною законным браком на веки вечные, покуда смерть не разлучит нас.
— Феденька, вот смерти не надо… — пролепетала Катарина и, не в силах справиться с внезапно нахлынувшей дурнотой, припала к плечу любимого, чтоб не упасть. Федор крепко обнял ее, даже не догадавшись о его состоянии. Для него смерть была повседневным спутником, чем-то вроде назойливого кровососа-комара, зудевшего над ухом свистом пуль и шипением ядер. Он не боялся смерти не только потому, что был еще слишком молод, чтобы понять ее страшный смысл, но и потому, что убиенных на поле брани непременно ждало Царствие Небесное. Так говорили попы и командиры! А кто же боится рая?
— Иди ныне к отцу, Катаринушка, — ласково, но твердо сказал он. — Надобно мне батюшке и матушке на Москву отписать, что ныне сын их честный жених честной девицы роду ливонского, да веры нашей! Слукавлю покуда малость… Письмецо это я с первой же эстафетой отошлю! Ты после этого все равно что моя законная жена перед семейством моим будешь! Ступай покуда, ладушка моя!
Катарина недовольно надула губки, и без того распухшие от поцелуев, и подошла к отцу.
— До вашего законного обручения в присутствии всего моего семейства, фельдмаршала и моей приемной дочери Марты я прошу всякие вольности прекратить! — строго приказал влюбленным пастор.
— Как тебе будет угодно, батюшка! — сладчайшим голоском пообещала Катарина и присела в глубочайшем книксене, украдкой лукаво подмигнув Федору.
— Никаких вольностей, сударь! Чтоб мне чарки не знать, коли совру! — отчеканил бравый сержант. Целомудренно поцеловав ручку своей свежей невесты, он чуть слышно шепнул ей:
— Завтра по первой звезде снова приду, коли на аванпосты не пошлют! Жди!
Свой путь в Россию Катарина продолжала уже невестой — с благословения отца и по дозволению фельдмаршала Шереметева. Она понемногу училась у отца и сержанта Иванникова русскому языку и с чудовищным немецким акцентом повторяла русские пословицы и поговорки: «Сердцу не прикажешь», «Тише едешь — дальше будешь», «Девичья коса длинна — ум короток». Катарина не без оснований считала, что последняя пословица не относится к ней, поскольку носила не косу, а локоны, и, стало быть, обладала весьма внушительным умом.
Пастор Глюк, впрочем, считал дочь глупышкой и втайне радовался тому, что Катарине достался такой защитник, как этот молодой, но надежный московский сержант. С некоторых пор преподобный не сомневался: Федор, пока он жив, сумеет защитить и спасти его нежную дочь от всякого зла. Суровая, непонятная Россия и ее грозный царь ожидали пастора и его семью, а он так не хотел и страшился этой встречи! Но встреча приближалась — неумолимая, как судьба или как московиты, и пастор денно и нощно просил у Господа помощи и защиты! Марта тоже каждую ночь молилась Господу Вседержителю, Иисусу Христу и Деве Марии не о своей свободе, а о жизни Йохана Крузе, которого все вокруг гласно или негласно признали мертвым.
В походе их застигла ранняя северная осень. Пролетали над войском, обозами, толпами беженцев и пленных холодные ветры, шли дожди, увязали в дорожной грязи телеги и люди, и неумолимо вставал перед пастором Глюком строгий и грозный облик России…
Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, оставив седло, трясся в тесном нутре своего разбитого возка. Пристроив на колени лист бумаги и заслоняя его полями шляпы от сбегавшей с прохудившегося полога струйки воды, он писал реляцию великому государю о победном завершении кампании ливонской: «Послал я во все стороны пленить и жечь, не осталось целого ничего, все разорено и сожжено, и взяли твои ратные государевы люди в полон мужеска и женска пола и робят несколько тысяч, также и работных лошадей, а скота с 20 000 или больше… И чего не могли поднять — покололи и порубили».
Часть вторая
На Москве и в Питербурхе
«Ассамблеи», или новомодные домашние приемы в духе Немецкой слободы, которые великий государь Петр Алексеевич повелел учинять всем благородным семействам, не очень-то нравились старой московской знати. Пусть там, в слободе этой диковинной и богопротивной, парни и девки собираются вместе, шумят и пляшут, в то время как голландские и немецкие фармацевты да менялы раскуривают свои трубки и наполняют воздух противным запахом бесовского зелья — табака. То ли дело боярские посиделки на старинный манер, когда старики чинно беседуют о том о сем, молодежь — почтительно им внимает, а боярышни появляются в светлице только для того, чтобы, густо покраснев, поприветствовать гостей! Но молодой государь издавна зачастил в Немецкую слободу к недостойной девице Анне Монс, оттого и велел своим подданным устраивать на дому иноземные посиделки. Хочешь не хочешь, а изволь. Петр Алексеевич и без гнева-то премного страшен, а в ярости — не приведи Господи! Иные ослушники государевы, сказывали, от одного его взгляда мертвыми падали, справедливой кары не дождавшись!
Борис Петрович Шереметев, чуя недоброе, давно просился у царя «на побывку» в Москву, к милой супруге Евдокии Алексеевне и ненаглядной дочери Аннушке. «Жена живет на чужом подворье, надобно ей дом сыскать, где бы голову преклонить, — писал фельдмаршал. — Сама не сказывается, но дочь дописывает, что зело недужна супружница моя. Отпусти на Москву, великий государь!» Петр же все медлил: и рубежи северные надобно было фортециями укрепить, и беженцев на землю осадить, и полон ливонский по острогам разослать. Человеческие надобности и печали Шереметева не укладывались в величие монарших планов.
Слава Богу, сын фельдмаршала, рассудительный тридцатилетний премьер-майор Михайла, выхлопотал отпуск из государева войска якобы для лечения открывшейся раны и, не жалея лошадей, поспешил в Белокаменную. Матушку Шереметев-младший застал уже не встающей с одра болезни. Она едва могла поднять руку, чтобы благословить его. Даже спешная покупка дома на Воздвиженке, куда со всеми предосторожностями перевезли больную и созвали лекарей со всего Кукуя,[35] ничего не изменила. Любимая супруга фельдмаршала, Евдокия Алексеевна, которая принесла Борису Петровичу богатое приданое и свою непомеркшую с годами любовь, вскоре скончалась тихо и бестрепетно, исповедавшись и причастившись и позвав на последнем дыхании: «Борюшка… Детушки…» Теперь даже царь не мог не отпустить своего лучшего военачальника на женины похороны.