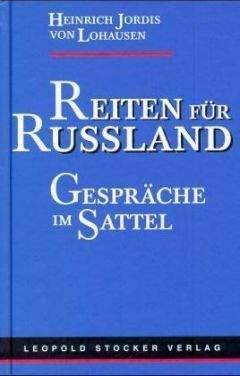Немецкая революция совершалась безмолвно, но под громом орудий. Она изменила Германию не меньше, чем английская Англию и французская Францию. То, что ее двигало, не было ни третьим сословием, ни партией как якобинцы, и не сектой, как индепенденты, а династия, ее армия и ее государство. Это была революция среди королей, восстание против империи, мятеж гвельфского короля против гибеллинской императорской идеи. Можно было вместо «гибеллинский» также использовать слово «габсбургский», а вместо слова «гвельфский», слово «гогенцоллернский», потому что все исходило от Гогенцоллернов.
Немецкой революцией была Пруссия, то государство, которое вскрыло империю изнутри и само стало государством, тем государством, которым мы являемся сегодня. Эта революция — она была сильнее и одновременно чище, чем все другие — еще ждет своего завершения. Французская революция закончилась с Наполеоном, британская с распространением Англии на три океана. До сих пор она создала себе только ее инструмент: армию и государство. Но само произведение, обширная, выходящая за свои пределы империя и ее стиль, и то и другое нам еще предстоит, и мы не найдем ни того, ни другого, без того, что находится здесь, без востока, без России. Понимаете ли вы теперь, почему мы должны были перейти через Днепр, почему мы теперь скачем к Дону, а оттуда к Волге? Мы при этом продвинулись не дальше, чем Англия во времена Кромвеля, и, как и англичанам, нам тоже придется заплатить за вход. Нам следует обратить внимание, чтобы эта плата за вход не оказалась слишком высокой.
Заметили ли вы, что точно в то время, когда Англия захватывала мир, Германия создавала ее самую великую музыку? И знаете ли вы, когда она была у Англии? Раньше, до этого! Когда британцы еще жили замкнутой жизнью на своем острове. Когда их сознание викингов еще не нашло себе своего подтверждения в каперстве и прорыве блокад, во всемирном пиратстве и оживленной работорговле. Тогда они еще пели искусные хоралы, но когда они приступили к завоеванию мира, их музыка умолкла. Тем не менее, тяга к дальним расстояниям и жажда приключений наших отцов продолжала воплощаться в нотах и партитурах, и то, что они не могли изведать с помощью кораблей и завоевать в седле, они изливали силой своего воображения в сонатах и симфониях — самых великих, которые когда-либо были написаны, потому что ни в одном другом народе не накопилось внутри столько не знающей выхода силы, ни один народ не был столь не исполнившим свою миссию в его земном деле, ни один так не отстал от своей исторической задачи. Потому он выстроил из великой музыки свою внутреннюю империю, потому что внешней империи он еще был лишен.
Утратим ли мы теперь нашу внутреннюю музыку из-за внешних успехов? У востока есть его собственная, без музыки запада мы могли бы в крайнем случае обойтись, но вряд ли без музыки востока. У нас есть Бах, и Бетховен, и Брукнер, но у нас нет Чайковского. Я не знаю народных песен, которые превзошли бы наши песни по задушевности, но русские песни им не уступают. И «Из Нового света» написал чех. Существует такая последняя мягкость, последняя меланхолия без сопротивления, которые мы не можем высказать. Вопреки нашей силе? Нет, как раз из-за нее! Сила еще в нежности как у Бетховена, еще в нежности как у Шуберта — это невозможно для славян. Русский никогда не смог бы написать фортепьянный концерт ми мажор, пастораль. Вы же знаете «Неоконченную симфонию» Шуберта? Квинтет до мажор? Они — крайнее, что в состоянии дать немецкая музыка в грусти. Но это мальчишеская, все еще мужская грусть. И вы знаете несравненную Первую симфонию Брамса? Кто знает, откуда взялось у этого ганзейца его чувство славянского! Иногда его музыка как единственная агитация ради чужой, другой души. Но это мужская агитация. Все чужое остается между строками. Напротив, у славян это лежит в крови и становится для них звуком и мелодией, не оказывающей сопротивления преданностью бесконечности никем больше не ощущаемой грусти.
Если Россией всегда управляли только кнутом, то, конечно, не потому, что она была столь своевольна или упряма, а потому что ее мечтательная уступчивость, ее мягкая нерешительность во все времена буквально призывала кнут к себе. Как для всех людей, которые не могут объединить доброту и силу, так и для русских тоже нет ничего среднего между крайней мягкостью и крайней твердостью, между самой большой готовностью к страданию и самой холодной жестокостью. Террор царей не был навязан им, он был вызван податливостью и уступчивостью в русской душе. Ни один русский не верит, что сила и доброта могли бы проистекать из одного источника. Сильный и добрый — никто не думает всерьез, что что-то такое существует на самом деле.
«Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую!» Мы на западе видим в этой библейской фразе призыв предоставить себя судьбе, на востоке — больше не защищаться. «Не противься злу» — ни один европеец не сделал бы из этого центр тяжести его учения. Толстой сделал это. Толстой, автор «Войны и мира», солдат как мы, артиллерист как мы, и капитан на Крымской войне. Британцам Толстой чужд, итальянцам не меньше. Но мы — мост. Одни мы среди всех народов Европы.
Меньше, чем другие, именно русские и немцы были предопределены для того, чтобы вести друг против друга войну. Хотя как раз взаимные жертвы в такой войне могут впоследствии приблизить избежание убийственных войн двух народов друг против друга. Фронтовики Первой мировой войны неоднократно уже вскоре после нее испытывали такое чувство. Они теперь были вдали от фронта, но воспоминания о нем снова постепенно тянули их туда и вместе с тем к неоспоримой предпосылке их тогдашнего опыта, и кроме того, в силу необходимости, к единственному еще оставшемуся свидетелю этого, их тогдашнему противнику — почти как к бывшему другу.
На западе Верден стал для немцев и французов постоянным мемориалом того, что их — с точки зрения здравого смысла бессмысленная — жертва могла только тогда иметь смысл, если при ретроспективном взгляде, все же, она подвинула их ближе друг к другу, подобно этому Изонцо для итальянцев и немецких, словенских и хорватских австрийцев. На горе Монте-Пал в Карнийских Альпах бывшие «альпини», итальянские альпийские стрелки, и австрийские императорские стрелки пожимали друг другу руки во время торжественной встречи там, где они много лет назад месяцами лежали друг против друга на самом малом удалении. Так и вообще те места, вокруг которых шли долгие и ожесточенные бои, городки, участки рек или горы, как, например, Монт-Габриеле или Монт-Сан-Микеле, приобретают для воевавших народов навсегда такое значение, которого никогда не было бы у них иначе. Что говорило, например, когда-то французу, который не родился там случайно, или, тем более, хоть одному немцу такое название как Шмен-де-Дам? Никто не знал его раньше. Но месяцами, в течение долгих лет он появлялся во фронтовых сводках обеих воюющих сторон.
На Восточном фронте чего-то подобного не было ввиду широты ландшафта. Также на востоке не доходило поневоле до похожей встречи. Новые государства препятствовали этому, Польша, прежде всего. Но еще раньше Октябрьская революция натянула железный занавес между собой и остальным миром. Теперь тем более такое напоминание тем, по ту сторону фронта, было бы запрещено. Мы не знаем, что живет там под ледяным покровом предписанного мировоззрения, мы можем только догадываться. Как бы то ни было: смотрящие глубже это приводит к прежнему противнику. Он для них — соноситель, сосвидетель той же самой судьбы. Напротив, видящие только на поверхности остаются в заезженных колеях заученных предубеждений.
Что разрыв между нами и русскими в обоюдной сущности был столь же мало обоснован, как и предопределен в противоположном мире, об этом еще тогда предупреждал снова и снова своих современников Рудольф Штайнер, ясновидящий и прозорливый. Вряд ли вам попадали в руки хотя бы выдержки из его лекций, которые он во время Первой мировой войны читал в различных городах Германии. Они относятся к самый поучительным для нас из всех работ этого удивительного пророка. Он ведь пережил удивление только что погибших русских солдат, когда они в тех, недоступных нам мирах, встречали своих французских товарищей и не могли понять, что как раз они были их союзниками во время их теперь закончившегося земного существования, так сильно они чувствовали противоположность обоих, столь отличающихся друг от друга в их духовных переживаниях народов, таким отчетливым был для них контраст между этими, вышедшими из готового, окончательно развитого и почти уже закостеневшего народа и их собственной, находящейся только лишь у истоков своего развития и все еще способной к любым изменениям сущности. Гораздо более сильную привязанность ощущали они к немцам и к противникам, сформированным австрийским господством, предопределенным для них с точки зрения тех вышестоящих нам миров к многообещающей встрече партнеров. Только использование земной глупости позволяло работающим за кулисами силам разделить тех, кто столь близко стоял друг к другу, оттеснить их во враждующие лагеря.