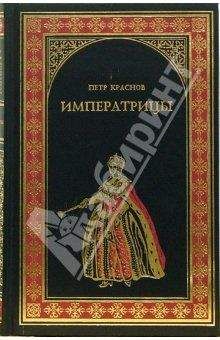Кровь бросилась в лицо цесаревне. Она вскочила с кресла и резко сказала:
— Я не хочу заслужить упреки своего народа!.. Что скажут мои солдаты, если я их принесу в жертву правам, предъявляемым мною на престол?..
— Ваше высочество, еще так недавно вы говорили с английским послом о народе… Ваш приговор был несколько иной.
— Я говорила о власти народа, о повиновении прихотям народа, но не о долге правителей пещись о благе народном!.. Оставьте меня, маркиз!.. Вы сами не понимаете, как опасна игра, в которую вы меня завлекаете… Я прошу вас… прекратите ваши посещения… По крайней мере на время.
Чтобы смягчить резкость своих слов, цесаревна проводила маркиза до дверей прихожей.
С этого дня она стала избегать маркиза, и, когда встречала его в Летнем саду или на набережной, она переходила на другую сторону.
Лето шло. Швеция начала войну с Россией. 23 августа 1741 года фельдмаршал Ласси разгромил шведскую армию, взял в плен генерала Врангеля, много полковников и офицеров. Более четырех тысяч шведских тел осталось на поле брани. Русские войска победоносно вошли в город Вильманстранд.
Едва громы Вильманстрандской баталии долетели до Петербурга и отразились салютационной пальбой с верков Петербургской крепости — поздно ночью к цесаревне в ее Смольный дом без приглашения явился маркиз Шетарди.
Цесаревна сидела одна в маленьком салоне подле бюро. Две свечи горели перед ней и освещали большой лист шероховатой, плотной голубой бумаги, на котором каллиграфическим почерком была написана только что сочиненная Ломоносовым ода на первые трофеи императора Иоанна III.
Цесаревна прочла латинский эпиграф.
Звук латинских слов пробуждал в цесаревне героические гордые мысли. «Да здравствуют сильные!.. Маркиз, пожалуй, кстати… втянул шведов в войну… На!.. Получай!..»
Она опустила глаза к бумаге. Длинные ресницы прикрыли их блеск. Она перечитывала звучные стихи, заучивая их наизусть.
Российских войск хвала растет,
Сердца продерзки страх трясет,
Младой орел уж льва терзает,
Преж нежель ждали, слышим вдруг
Победы знак, палящий звук.
Россия вновь трофей вздымает
В другой на финских раз полях.
Свой яд премерзку зависть травит,
В неволе тая, храбрость славит,
В российских зрила что полках…
«Какой, однако, молодец Михайла Васильевич… Ай да архангельский мужик!..»
Цесаревна давно не видала маркиза Шетарди и не хотела его принимать… Но сейчас?.. Очень кстати… Оч–чень!.. «Сердца продерзки страх трясет…» С чем–то к ней придет посланник ее короля?
Цесаревна приказала камер–лакею пригласить Шетарди в маленький салон.
— Маркиз, — сказала она, протягивая Шетарди руку, — вы не думаете о том, что вы сими ночными посещениями меня компрометируете?..
— Ваше высочество, мне еще вчера мой коллега Финч передавал, что герцог Антон ему сказал: «Я знаю, что французский посланник часто ездит по ночам к принцессе Елизавете, но так как ничто не показывает, что они занимаются любезностями, надо думать, что у них дело идет о политике». За вашим высочеством установлен слишком хороший надзор.
Цесаревна задумалась. Что было лучше, что хуже, она, по правде сказать, не знала. Прослыть легкомысленной особой, «любезной» маркиза де ля Шетарди, чьей благосклонности добивается столько дам петербургского общества, — ей?.. Ее имя уже трепали с Шубиным, и теперь ее любовь к Разумовскому у всех на устах… На чужой роток не накинешь платок… В конце концов это в нравах петербургского света и двора… Бирон… Линар… пускай думают, что у нее Шетарди. Выбор не плохой. Самый красивый, изящный и тонный кавалер петербургского общества… Посланник короля французского… Пусть лучше это о ней воображают… За любовные утехи не казнят, не стегают плетьми на дыбе, не ссылают в далекие холодные края, где стоит вечная ночь… Тогда как политика?..
— Маркиз, вы не думаете, однако, что вы играете и моей и вашей головами…
— О, ваше высочество… Я посол Франции…
— Вы — да… Но я?..
— Ваше высочество, я ворвался к вам с хорошими вестями. Фельдмаршал шведский Левенгаупт готовит войско, чтобы идти на Петербург, выгнать немцев и посадить вас на престол.
— Не забывайте, маркиз, что против фельдмаршала Левенгаупта стоит фельдмаршал русский Ласси, и наш милый поэт и ученый Ломоносов уже сказал про его дела:
Российских войск хвала растет,
Сердца продерзки страх трясет,
Младой орел уж льва терзает…
Цесаревна произнесла стихи по–русски с силой и уменьем декламировать. Она сейчас же и перевела их по–французски.
— Младой орел, маркиз, — сие есть наш благоверный государь Иоанн Антонович, а лев? Вы, конечно, смекаете, что сие есть?.. Шведский герб имеет льва в себе.
— Ваше высочество…
— Оставим о сем разговоры, милый маркиз… Через три дня первое сентября, — охотничий праздник. Я не премину справлять его в Петергофе. Милости просим ко мне, как говорит мой Михаил Илларионович — «себя, лошадей, зайцев, людей и собак беспокоить». Сие беспокойство, по крайней мере, кроме зайцев, никому существенного вреда не приносит. До свидания. Покойной ночи, маркиз.
На этот раз цесаревна не провожала маркиза. Ей были страшны его посещения, и она, отбыв 30 августа праздник Александра Невского и проследовав с правительницей и двором на барже в монастырь, отстояв там обедню и молебен и откушав в монастырских покоях, в тот же день вечером уехала в Петергоф, чтобы «беспокоить себя, лошадей, зайцев, людей и собак»…
Подальше от политики, от Нолькена и от маркиза де ля Шетарди.
XVIII
Но мысль о том, что она должна стать на защиту России от немцев и шведов, что ей, а не жалкой и глупой Анне Леопольдовне следует править громадной империей, ее не покидала. В длинные осенние вечера, то вдвоем с Разумовским, слушая звон струн бандуры и его мягкий голос, то в шумном обществе приглашенных охотников, — она задумывалась. Не настало ли время, когда и ей, как ее отцу, надо «слабость свою преодолеть рассуждением» и показать «удивительное мужество»?.. Не приближается ли к ней ее Полтава?..
В ноябре она вернулась в Петербург. Она не хотела больше принимать маркиза Шетарди и вести с ним волнующие беседы о том, что она должна сделать для блага России, но отказать ему не могла. Он являлся без зова. Он караулил у ее подъезда, когда она ночью возвращалась из Зимнего дворца, и появлялся перед ней в шубе и черном плаще, как подлинный заговорщик, и, как влюбленный, умолял ее об одной минуте свидания. Она не умела его прогнать.
Рок увлекал ее, как увлекает страстного игрока азарт игры. Через Лестока она передавала Шетарди, что слышала и видела при дворе, она вовлекалась в тонкую и хитрую политическую игру, где уже нельзя было определить, где были интересы Франции и где интересы России. И ей становилось страшно.
22 ноября при дворе был куртаг. Цесаревна после долгого отсутствия появилась официально во дворце. Приглашенных было немного. Правительница не любила многолюдства, шума и танцев. По залам были зажжены люстры, кинкеты и бра и поставлены столы для карточной игры. Анне Леопольдовне нездоровилось. Она была не в духе. Она явилась на куртаг в небрежной прическе, с головой, повязанной белым платком, ее юбка была без китового уса, и фижмы висели на ее бедрах складками, как лепестки поблекшей розы. Ей приготовили для игры отдельный стол, за который сели ее муж Антон Ульрих, министр Венского двора маркиз Ботта, Финч и брат фельдмаршала Миниха. Анна Леопольдовна взяла было карту, но сейчас же бросила ее и сказала:
— Нет… Я не буду играть… Не в авантаже я…
Она пошла бродить по залам. В угловой гостиной цесаревна играла в ломбер. Правительница подошла к ней. Надо было разрешить то, что давно ее тяготило.
— Мне надо поговорить с вами, ваше высочество, — сказала она, касаясь плеча цесаревны.
— Я слушаю, ваше величество, — сказала цесаревна, кладя карты на стол. — Камрады, прошу простить. Михайла Илларионович, продолжай за меня.
Она встала из–за стола. Правительница обняла цесаревну за талию и повлекла ее по залам дворца. Они прошли ряд комнат, где стояли карточные столы и где были играющие, камер–лакеи и скороходы, и наконец дошли до маленького салона подле спальни ребенка–императора. Здесь никого не было. Как и во всем дворце, здесь по–праздничному горели люстры и кинкеты, и яркий их свет в пустой комнате показался цесаревне ненужным, скучным, тоскливым и холодным, точно предвещающим ей несчастье.
— Садись, — кротко сказала правительница и сама села на небольшой диван. Цесаревна опустилась рядом с ней. Правительница летом разрешилась от бремени дочерью. Ее плохо подкрашенное лицо было устало. Щеки пожелтели и отвисли, глаза были тусклые. Цесаревна, проведшая всю осень в Петергофе и в отъезжем поле, дышала силой и здоровьем. Загорелая на морозных ветрах, она была румяна без румян. Ее синие глаза смело и открыто смотрели на Анну Леопольдовну.