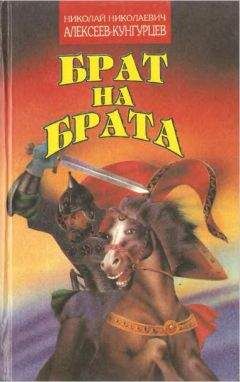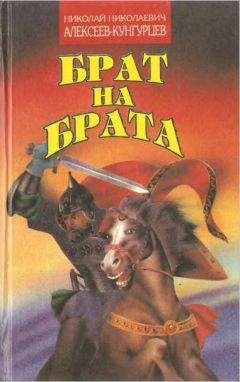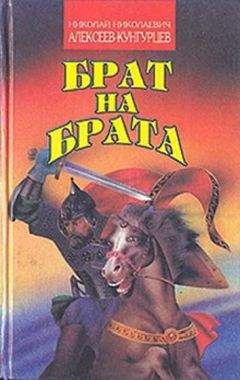— Уберусь! Уйду! А только и ты меня попомнишь, еретик проклятый! — пригрозил в заключение Макарий.
«Еще грозить смеет! — думал, прохаживаясь, боярин. — Так я и испугался его угроз! Нет, вон его, вон! Завтра же в Москву съезжу!»
В это же время в своем домике расхаживался и поп Ма- карий, вернее — бегал по комнате так, что полы рясы метались в воздухе. Попадья два раза звала его обедать, но он только отмахивался от нее да приговаривал: — Отстань! Ну тебя.
Потом он подошел к небольшому шкафу, где хранились письменные принадлежности, вынул лист бумаги, чернильницу, перо и, присев к столу, начал что-то старательно выводить полууставом.
— Боярыня! Отец Макар приехал.
— Отец Макар? Зови его в светлицу да дай мне приодеться, что ль.
И Василиса Фоминишна, спешно допив кружку утреннего сбитня, поднялась с лавки.
Время и на ее лице оставило свой след. Она была по-прежнему хороша собой, но ее взгляд потерял былую ласковость, морщинки перерезали лоб.
Отцу Макарию пришлось ждать недолго.
— Гость дорогой, отец Макар! Вот рада я радешенька! — сказала боярыня, входя.
— И, полно, боярынька! Какая радость! — поднялся тот ей навстречу. — Непгго со мной, стариком, веселье вдовице младой?
— Ай, шутник, отец Макар! Скажи лучше, чем потчевать: медком, наливочкой, али зеленым вином?
— И не хлопочи: ей-ей, не до угощенья. По делу я.
— Дело делом…
— Нет-нет, уволь! Мне и времени нет, признаться…
— Экий какой ты! Ну, твоя воля! С каким же это ты делом?
— Ох, матушка, невеселое дело! Еретик тут завелся.
— Еретик? — удивленно спросила боярыня.
— Еретик богопротивный. Честным людям житья от него нет. Хоть бы меня взять — сколько лет я здесь священствовал, а вот теперь еретик гонит меня, без хлеба норовит оставить.
— Чудное что-то ты говоришь! Кто же этот еретик?
— Ох, ходит волк в личине овчей. На вид и ласков, и пригож, и добр будто… Говорю я не про иного кого, как про царева окольничего Марка Даниловича Кречет-Буйтурова.
— Вот про кого, — протянула Василиса Фоминишна, и ее лицо покрылось красными пятнами.
Отец Макар продолжал, не глядя на нее:
— Да, вот про кого. Много ль он здесь? До-трех годов не дохватит, а что он натворил? Все вотчинники окрестные криком кричат. Крестьян от всех переманил, завел порядки басурманские — «у меня», говорит, «нет рабов, все люди вольные», — школу построил… это для смердов-то! А? В церковь так калачом его не заманишь, а на потехи дурацкие есть время: выдумал, вишь, он ратному делу холопов обучать. Царю, говорит, я ратных людей добрых должен поставить. А на деле не к тому он клонит — помыслы у него нечистые: хочет измену учинить.
— Измену?
— Да. Перво-наперво, Бориса Федоровича от царя отдалить хочет, а потом мятеж учинить, благо ратники готовые, и на его место сесть.
— Ой, верно ль?
— Лгать ли стану? Для чего он с Мстиславскими да Шуйскими спелся? Вместе с ними хотел царю просьбу подать, чтоб он, батюшка, с царицей развелся да другую жену себе взял?
— Доподлинно знаешь?
— Я ль не знаю! Вот, теперь я объездил всех вотчинников здешних, все в голос кричат: «прогнать надо еретика этого из мест наших». Составил я к царю челобитную, подписи собираю… За тем и к тебе приехал: охоча ли будешь подписать?
Василиса Фоминишна некоторое время молчала. Ей вспомнились печальные дни, полные тоской неудовлетворенной любви, вспомнился холодный отказ Марка на ее пылкое признание, вспомнилась его любовь к Тане, и злоба шевельнулась в ее сердце.
«Погубить! Досадить!» — мелькнула злобная мысль.
— Да, да… Я руку приложу к челобитной… Да, да… проговорила боярыня.
— Вот и бумажка… Чернилец бы да перышка.
— А только я крестов понаставлю по безграмотству.
— Ничего, матушка, ничего. Мы оговорочку сделаем, — говорил поп.
Лицо его сияло. Это была удача немалая: втайне он мало надеялся на согласие Василисы Фоминишны, а согласие ее было важно: вотчина ее была одною из самых значительных, и на ее имя, подписанное под челобитной, обратили бы большее внимание, чем на всякое другое.
Марк Данилович был немало изумлен, когда однажды утром во двор его усадьбы въехало несколько конных стрельцов.
— Зачем пожаловали? — спросил их ключник.
— До боярина твоего дело есть. Подь, доложи ему!
Кречет-Буйтуров и сам как раз вышел.
— Что скажете, братцы?
Стрельцы и шапок не заломили.
— Снаряжайся-ка в путь-дорогу.
— Куда да зачем?
— По указу цареву послал нас за тобой Борис Федорович.
— Да некогда мне теперь. Вот завтра разве.
— Как хошь устраивайся, а только не мешкая изволь с нами ехать: не поедешь — сильем взять тебя приказано.
Марк Данилович вздернул плечами от удивления.
— Что за притча! Делать нечего, надо ехать.
Через полчаса он уже в сопутствии стрельцов съезжал со двора. Проезжая мимо поповского дома, он заметил стоявшего на крыльце отца Макария. Поп смотрел на молодого боярина и злорадно хихикал.
«Чему он радуется?» — подумал Марк Данилович, и неясная догадка промелькнула в его голове.
— Куда ж я с вами поеду? К царю прямо? — спросил своих сопутников Марк.
— К Борису Федоровичу, — ответили ему.
Это были единственные слова, которыми он обменялся со стрельцами во время пути. Правда, он пытался разговориться с ними, но ему не отвечали. Путь до Москвы показался на этот раз боярину невыносимо долгим. Когда подъехали к палатам Годунова, он облегченно вздохнул и подумал:
«Ну, слава Богу! Хоть узнаю, в чем дело!»
Спрыгнув с коня, он направился было к крыльцу, но его остановили:
— Обожди, наперед доложить надо.
Ждать пришлось с добрый час, стоя на солнцепеке: его даже не ввели в сени. Наконец пришли за ним.
— Пожалуй в светлицу: Борис Федорович ждет.
По тону стрельцов, по обращению холопов Годунова, по долгому ожиданию у крыльца Кречет-Буйтуров догадался, что ему грозит какая-то беда. Улыбка отца Макария не выходила у него из головы. Когда он вошел в светлицу, Борис Годунов сидел, облокотись на стол.
Марк Данилович отмолился на иконы и промолвил:
— Здравствуй, Борис Федорович!
Годунов не шевельнулся, как будто не слышал: Марк прождал некоторое время и повторил громче:
— Здравствуй, Борис Федорович.
Правитель поднял на него глаза. Его взгляд был суров.
— А! Пришел, Иуда! — промолвил он.
— Иуда? — недоумевая, пробормотал Марк.
Царский шурин стукнул по столу кулаком и выпрямился
во весь свой высокий рост.
— Иуда-предатель! За добро мое, за хлеб-соль мою меня предаешь. В глаза предо мной лясы точишь, а за спиной с ворогами моими в дружбу вступаешь, козни мне строишь.
— Я?!
— Да, ты, ты! Мятеж учинить хочешь, крестьян сбиваешь, с Шуйскими заодно челобитье подать царю норовишь, чтоб он с царицей, сестрой моей, развелся — неплодная, дескать, она — да на другой поженился. У! Аспид! Казнить смертью тебя мало!
Годунов стоял теперь совсем близко от Марка Даниловича, тяжело дыша, сжав руки в кулаки и обдавая своего невольного гостя искрометным взглядом.
Вдруг он приблизил свое лицо к лицу Годунова, глянул ему прямо в глаза и не то прохрипел, не то прошептал:
— Кажись, скажи ты еще одно слово — придушу я тебя, Борис Федорович!
И должно быть, грозны были в это время его вид и взгляд, и не пустою угрозой прозвучали слова, потому что Годунов круто оборвал свою речь и отступил на шаг.
— Эй, люди! — хотел он крикнуть, но Кречет-Буйтуров не дал ему времени. Прежде молчавший, он теперь заговорил так же, как говорил перед этим правитель — быстро, без передышки, не давая возможности Годунову прервать себя.
— Иудой обозвал, а за что — про что? Какие я крамолы заводил? Какие козни строил? С Шуйскими сдружился… Да я Шуйских и в глаза-то сколько времени не видал! Этак-то винить можно! На-ка! Набросился ни с того ни с сего. Развести царя с царицей хочу… Господи Иисусе! Да зачем мне это, коли я и во двор-то государев езжу чуть не в год раз? Чего мне добиваться? Милостей царских? Так у меня все есть, ничего мне не надо. Ну, скажи, скажи ты, Бога ради, за что ты меня изобидел?
Последние слова Марк Данилович проговорил уже не раздраженно. В его голосе слышалась укоризна.
Правитель умел владеть собой; по его лицу трудно было угадать, какое действие произвела на него речь Марка. Теперь Кречет-Буйтуров замолк, Борис Федорович имел полную возможность позвать холопов и приказать удалить его, связать, выгнать из дома с позором или учинить что-нибудь иное в этом роде, но вместо этого он вынул из-за пазухи лист бумаги и подал его Марку Даниловичу, промолвив: