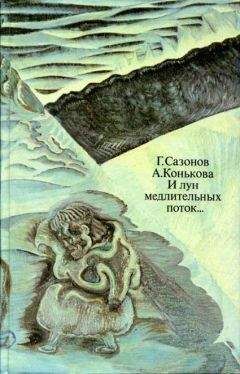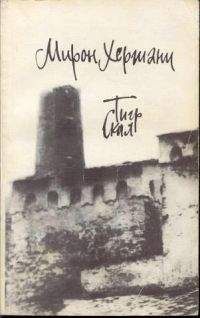— Мне-то он, может, самым красивым глядится, — осторожно начала Апрасинья. — Но скажу тебе, Лукерья, на лицо, на тело — видный, горячий, быстрый! Девки наши бегают за ним сучонками, оттого и боязно, что могут выстудить его насквозь. Издохнуть можно, когда девок много.
— Он сын твой, что ли? — Лукерья подняла на Апрасинью кроткие глаза. — Охотник?
— Да! Фартовый охотник! — с гордостью ответила Апрасинья. — Хороший у меня сын, сильный. И коней любит. В кузне железо бьет, — доверительно сообщила Апрасинья. — А ума наберется. Жизнь его, как весло, короткая.
— И ты зажелала взять ему в жены Акулину? — как-то тихо удивилась Лукерья. — Он же ди-ки-ий! — с затаенным ужасом протянула она. — Ди-кий… Пропах шкурами и зверем. Утащит в свою берлогу, — тетка подняла свои невидящие глаза в набежавшей слезе и простонала: — В берлоге кровь из нее выпьет. Он же тела ее касаться станет, требовать.
— Какой он зверь, когда он сын мой?! — успокаивает ее Апрасинья. — Человеческий он детеныш, гляди, вот она — я, дотронься. Медведица, что ли, я? — Ей стало так одиноко и тоскливо от той вражды, что жила в слабом, кротком существе. — Я приняла тебя за добрую… За чистую я приняла тебя, Лукерья…
— Нет! Не бывать тому, — громко крикнула тетка, лицо ее исказили гадливость, страх и омерзение. Откинулась она от Апрасиньи, а в комнате, в раскрытой двери, возникло опухшее с похмелья, красное и дряблое лицо Манюни.
— Пошто крик? Кака така драка? — рявкнула Манюня и, растрепанная, шлепнулась задом на широкую лавку. — Горим али тлеем?
— Вот она… — вскинула, как пику, свой тоненький пальчик Лукерья.
— Ну, вижу, — колыхнулась Манюня. — Укусила?
— Дикая туземка хочет взять… в снохи Акулину… В вонючее стойло… Во вшивую юрту, в собачник… — завизжала Лукерья так тоненько и пронзительно, что зазвенело в ушах.
— Ну так што? — мотнула нечесаной головой Манюня. — Девке срок пришел, созрела. А то, как морошка, перекиснет… Перекиснет ведь, — хохотнула Манюня и ткнула кулаком в тугой бок Апрасиньи. — Девку с огня надо ломать, как шаньгу, ей-бо!
— Да я по-доброму хочу, — устало и отрешенно ответила Апрасинья. — Сговориться, калым назначить…
— Калым — это перьвое дело! — выдохнула Манюня. — Да и пир закатим хмельной, чтоб земля дрожала.
— Туземка дикая… — тягуче стонала Лукерья. — Вонючая, немытая инородь… Господи… и туда же лезут. Куды конь с копытом, туда и рак с клешней.
— А сама-то кто? — стукнула по столу кулаком Манюня. — Сама-то каких ты кровей? В тебе вогульские, и татарские, и русские кровя. В этой, — она хлопнула ручищей по плечу Апрасинью, — хоть одна, да своя, цельная. Эх-ма! Счас мы с тобой, Апрасинья, белого вина хватанем, не то в голове у меня туман. Счас… Ладно ты придумала.
Манюня ушла в переднюю комнату, загремели лавки, заскрипел стол, грохнул на пол котелок. Вскоре вернулась, прижимая к груди завернутую в платок посудину. Дрожали руки ее, когда цедила белое вино в берестяной ватланчик, наполнила его и с размаху опрокинула в рот — еех-ха! Открыв рот, выдохнула, крякнула, смахнула слезину, набрякшую у глаза.
— Пей! — И протянула половину ватланчика Апрасинье. — Пей! Сговор счас изладим! Федора! — рявкнула Манюня. — Поди сюда, рядиться начнем!
По-мышиному, мягко вкатилась в комнату Федора. Тонкие ноздри ее задрожали, принюхалась Федора — шибануло в нее сивушным духом.
— Бесстыжая! — тоненько вскрикнула Федора и взмахнула сухоньким кулачком. — По утру зелье жрешь, да сгори ты синим огнем! Тьфу, бесовка! Покарай ты ее, господи, кобылицу неразумную!
— Я те покараю! — Манюня положила на ее плечо чугунную руку, и Федора опустилась на лавку. — Слышь, Федора, она вот Акулину нашу сватает.
— То не она, то дурь ее сватает, — поджала губы Федора. — Акулину есть кому посватать, — чуть помедлила Федора, оглянула искоса Апрасинью. — Лавочник вдовый из Гарей антерес к ней поимел.
— Кривой-то? — заорала Манюня. — Да он плешивый, как моя задница. Налим мокрогубый! Ты вовсе сдурела, Федора. Кривоглазый…
— Лавка у него не кривая, — отрезала Федора. — Битком товаром набита… И бакалея, и галантерея… И амбары полны…
— Плешивец он, — тихо подсказала Лукерья. — Голова босая…
— Зато почет! — взмахнула птичьей лапкой Федора. — Всех мужиков в округе в кулаке держит…
— Кровосос! Мизгирь мохнорылый, — бухнула Манюня и налила себе вина. На ее лице выступили красные пятна, желтизной заполыхали глаза.
— Приданого просит вовсе мало, — гнет свое Федора. — Просит он за Акулину десять рублей золотом, да две шубы беличьих, да тулуп волчий, корову да коня. Ну и белье-одежду…
— Да пошто приданое псу одноглазому отдавать, когда по ихнему закону, — Манюня кивнула на Апрасинью, — с жениха выкуп возьмем! А тебе что с того, что у лавочника амбары полные. Тебе-то — навар?
— Верно, верно, — закивала головой Апрасинья, — какой выкуп назначишь. Думать будем… Может, сладим, — уже тише добавила она. — Да и мансийка она, Околь, не русская…
— Торговля это! Купля! — заломила руки Лукерья. — Девушку продавать в дикий урман? Кака така Околь мансийка — дикую гусю выкорми, домашней станет. Насквозь русская. Она исподнее белье носит…
— Здесь все дикие! — поднялась Апрасинья. — Здесь девка сама мужику выкуп приносит… А пошто? Чтобы сравняться с ним, одного росту стать, да? Пущай исподнее носит, то делу не помеха… только пошто девка сама выкуп несет?
— Ишь ты, десять рублей золотых, — взмахнула рукой Манюня. — Да я удавлюсь на осине да стану приходить по ночам к нему голая, а не дам! Не дам! — яростно замотала головой Манюня.
— Обещано мною было! — не сдается Федора. — Лавошник Матвей так считает — возьмет он в жены Акулину, а в ее комнате или в моей лавчонку с ходовым товаром откроет, и потекут к нам денежки и от пешего, и от конного люда. Думать надо! Головастый мужик, копейку не сорит…
— Нету… нет… и нету! — загрохотала лавкой Манюня. — Ты, сестрица старшая Федорушка, верно, забыла, что тройной мы ответ за нее держим. Лукерья! Ты согласна Акулину за лавошника кривого отдать?
— Не согласна! Плешивец… Жаден, что волос свой не хочет носить… — ответила Лукерья.
— А ты согласна за вогула отдать в урман? — пытает Манюня.
— Не согласная! — отвечает Лукерья.
— Так за кого отдавать-то? — потребовала Манюня.
— Не знаю! Ой не знаю… Ведь он ее в постелю свою опрокинет!
— Для того и в жены берут, дура! — рявкнула Манюня.
— Ну, а какой для антиресу твой выкуп? — равнодушно будто поинтересовалась Федора. — У нас девка непростая. Она грамоту знает, шить обучена, русской стряпне. Крещена вдобавок. Так какой твой крохоборный выкуп, шаманка?
— Говори сама! — только и смогла ответить Апрасинья. — У нас в Евре разной девке — разный толк.
— Ну какой? Отвечай! — потребовала Манюня. — Только не бреши. Мы цены знаем, — она стала деловой, какой-то очень резкой и опасной.
— Разный калым, — уклончиво протянула Апрасинья. — За какую там мелкую девку — пуд белок да что-нибудь из мехов. Кто конями берет да овцу-другую в придачу. Или пару собак хороших, или пай свой в реке отдаст девкину отцу. В моих землях — у сосьвинских манси — пушнину, котлы медные, чайники, табак дают, муку, сахар. Оленей дают, нарты, а то и чум готовый. Капкан дают, ружье. Ружье, однако, редко.
— Ну, баба! — рассердилась Манюня. — Пошто нам капканы, пошто собаки, котлы медные, — передразнила Манюня. — Ты дело говори — сколь пушнины дают?
— Пуд… два пуда белки! Пуд соболя — это больно хорошая девка, — ответила Апрасинья. — Редкая порода… Которая одна у отца-матери. Выгулянная…
— Так! — задумалась Манюня, зашевелила губами. — Ты, Федора, торг знаешь, сколь шкурка соболя стоит? Ладно, молчи, значит, пуд соболей? А сколько в пуде-то, а? За Акулю — два пуда!
— Два пуда?! Два пуда-то — три-четыре зимы бегать в урман надо. Нет, наверное, четыре зимы, — ответила Апрасинья. — Можно совсем издохнуть, а зверька не достать. Он — умный человек, соболь. Сам он в петлю, в сеть не лезет, однако. Помни это!
— Это, конечно, — согласилась Федора. — Сам бы лез, золотом не ценили. Но у вас его там видимо-невидимо, огульного зверья-то. Сказывали знающие люди, что соболь запросто бегает по деревьям, а когда мороз ярит, то падает прямо на землю. Только-то и трудов что ходи подбирай! Слыхивали…
— Плюнь тому в глаза, кто тебе такое сказал, — вскочила Апрасинья. — Не каждому охотнику соболь достается. Ладно, пошлю своих мужчин в лес. За две зимы добудут. Бери пуд соболей да пуд белки, — решительно заявила Апрасинья. — Сама в лес пойду и добуду.
Молчат сестры. Тихо стало у стола. Федора пошептала сухими узкими губами, переплела пальцы, выдернула нитку из платка.