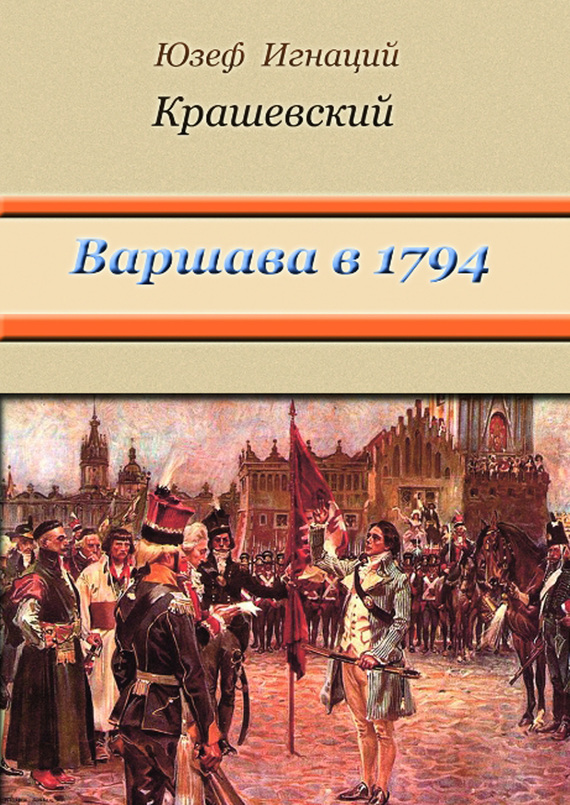Где часы богослужения и где посты, где воздержание и смирение? Я их не вижу. Каждый делает, что хочет. В зам-ках происходят возмущения! Монахами мы перестали быть, а как собранный с целого света солдат, мы не много стоим. Связывал нас святой устав, суровость обычая, дисциплина ордена, смирение, послушание и презрение смерти… где они сегодня?
– А! Брат Альбрехт, – прервал, хмурясь, Швелборн, – этого достаточно, достаточно; твою проповедь мы слышим издавна при каждом обстаятельстве. Когда враг на шее, не время исповедоваться и собираться на покаяние: рубить нужно.
– А без покаяния твоя рука усохнет, – отпарировал Гойм, – без милости Христовой меча не подвинешь, ненависти не хватит, ненависть не даст победу.
Некоторые усмехались, иные смотрели с сожалением: магистр казался недовольным, что вызвал напрасные слова.
– Но в чём же вы находите нарушенным устав? – спросил он.
– Слишком долго было бы перечислять, – ответил спокойно старый вояка, – от одежды, еды, речи даже до молитвы; всё изменилось, раньше с женщиной нельзя было говорить, сегодня с нею по целым дням, а, может, и ночам, развлекаются, за грех это не считают; стол орденский был простым, сегодня – изысканный; не имел никто собтвенности, хабиты, денег, родовой печати, ни собственной воли в чём-нибудь: сегодня каждый носит, что ему нравится, собирает, скапливает, раздаёт, а живёт, лишь бы за стены выбрался, как мирской человек. Поэтому Орден слабеет, падает и любая буря его свалит.
– Нет! – закричал маршал. – Нет! То, на что вы жалуетесь, старый брат филин, предсказатель плохого, всегда было и всегда будет. Мы не хуже других.
– Что же? Лучше? – спросил холодно, глядя ему в глаза, старец.
Лихтенштейн немного смешался.
– Не приписываю себе того, чтобы мы догнали тех первых, что на этой земле крест воткнули; но…
– Несомненно, что поздно сегодня исправлять то, что года попортили, – добавил Гойм, – но если мы выйдем целыми, покаимся! Братья, покаимся!
Тихо было в шатре, некоторые казались скучающими, иные смеялись, отворачиваясь; старый Альбрехт обратил на это внимание, вздохнул и замолк.
Все тоже долго молчали.
– Чтобы получить силу Христову, – добавил, как бы сам себе, – нужно подражать Господу Христу и держаться его учения. Наш Орден начался с госпиталя и милосердия, а закончил разделами и резнёй. Мы крестим кровью, обращаем мечом, от меча погибнем.
Сказав это, как бы для успокоения совести, он слегка опустился на одно колено перед магистром, остальным братьям отдал поклон, и вышел медленным шагом.
Хоть никто не хотел признаться в этом, выступление старца произвело впечатление, как упрёк, который отозвался в совести. Каждый чувствовал, что много правды было в словах сурового рыцаря. Ульрих прошёлся около стола, взял голос, словно это отступление не относилось к делу, и сказал решительным голосом:
– Необходимо немедленно выступить, я ждал ещё подкреплений, я рассчитывал на промедление, полагался на Сигизмунда, который собирался напасть с венгерской границы, на ливонцев, что вторгнутся на Литву… я хотел врага втянуть вглубь страны, с тем чтобы его не выпустить… вы вынуждаете меня, а, скорее, события заставляют идти розыграть битву. Итак, решили. Мужество нужно удвоить, так как силы у нас маленькие и мы слабее Ягайлы.
Началось бормотание.
– Не согласно численности значит солдат! Что значит численность? Наша сила в рыцарской науке и сердцах!
Магистр не ответил.
– Протрубить к походу! Выступаем!
На этот сигнал комтуры двинулись к дверям, некоторые с восклицаниями, и по лагерю тотчас разошёлся звук труб и призыв: «На коней!» С шумом собирали палатки.
Наёмные солдаты ещё проводили время над столами и бутылками, когда разошёлся сигнал; таким образом, кто что нашёл под рукой, забирал, выпивал, прятал, а челядь спешила седлать и крепить.
С поспешностью, которую давно не помнили, собирались выступать. Хоругви около полудня уже на лугах под замком начали строиться. Хмурое и плывущими облаками покрытое небо немного затеняло солнечное пекло, но воздух был душный и давил на грудь свинцом.
Сворачивали и палатки, под которыми принимали гостей, и магистрский шатёр, и что только можно было собрать, нагрузили возы как можно быстрей. Фанатичный Швелборн имел их несколько, полных верёвок и пут, напоминая, что готовил их для польских пленников.
Великолепной и торжественной процессией двинулось крестоносное войско, вместо молитвы военными возгласами и угрозами всё звуча. На фронте шла большая хоругвь Ордена с чёрным с золотым крестом, на котором в золотистом щите был виден чёрный орёл. Под ней ехал сам великий магистр, наиболее видные господа, двор Ульриха и его челядь, очень пышно вооружённые и нарядные, как на показ, не на битву.
Здесь светились наикрасивейшие позолоченые доспехи, самые загадочные шишаки, самое дорогое оружие, наибелейшие плащи и наибелейшие лица. Магистр на груди имел цепь с иерусалимским реликварием, который считался, как Палладиум и сила Ордена.
За ним шла хоругвь поменьше, великого магистра, его флажок, под которым находилось прусское дворянство, наёмные немецкие рыцари и собранная платная дружина. Первые ряды сверкали и тут доспехами, снаряжением и отобранными людьми, но дальше можно было увидеть таких, которые шли на войну больше, чтобы есть, чем, чтобы биться и, нагруженные без меры, оглядывались больше на телеги, чем на хоругвь.
Хоругвь великого маршала с чёрным крестом сложена была из франков, потому что и он сам происходил из Франконии, а людей были отобраны для боя; за ней шёл со своей Конрад, князь на Олеснице, под знаком чёрного силезского орла, с жителями Силезии, между которыми было большинство, которое лучше по-польски, чем по-немецки, говорило.
Ежи Герсдорф, силезиц, нёс хоругвь святого Георгия с белым крестом на красном поле. Была это одна из самых первых, под которой собрались только те, что на поле битвы никогда не уступали и знаку своему позор учинить не давали. Герсдорф был среди них одним из наиболее выдающихся, настоящий солдат, так как с детства не снимал доспехов и война была его ремеслом.
Хорунжий земли Хелминской, Николай Рениш, глава союза Ящерицы, нёс бело-красную хоругвь с чёрным крестом и вёл хелминскую шляхту и мещан; за ним следовали комтуры, каждый во главе своих, потом хоругвь епископств, знаки городские, знаки наёмных полков с разнообразными гербами, наконец, челядь, слуги и пушки, телеги с ядрами, порохом, припасами, палатками, бочками вина и пива, запасным оружием и т. п. Количество этих было почти таким же великим, как войска, и они представляли отдельный лагерь. Со своей хоругвью выступил также между сановниками казначей Мерхейм, но его место занял наместник, которому её доверил вести, сам оставшись в замке для дел, которые хотел проследить…
Из окна своей кельи Офка, пробудившись после короткого сна, когда трубы начали отзываться одна