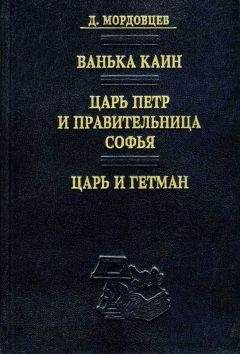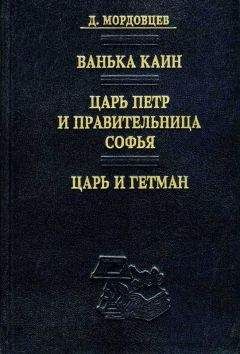Царь ни за что не хотел верить, чтобы Мазепа изменил ему. Уже не раз на него доносили по злобе или по зависти, и всякий раз оказывалось, что доносы были ложны. Так не подтвердился еще почти двадцать лет назад донос некоего инока Соломона, подосланного врагами Мазепы с изветом, будто бы гетман хочет отдать Малороссию Польше, — и царь выдал доносчика головою Мазепе же. Так оказался ложным донос в форме подметного письма на «злаго и прелестнаго» Мазепу — письма, по-видимому, сочиненного родственниками бывшего гетмана Самойловича — гадячским полковником Самойловичем, князем Юрием Четвертинским, полковником Дмитрашкою Райчею и Леонтием Полуботком; и этих Петр выдал головою своему любимцу — гетману, как и инока Соломона. Того же самого ожидал царь и от доноса Кочубея, но при всем том велел Головкину расследовать это дело тщательнее, «по розыску». Это уже пахло застенком…
И Гаврило Иванович работает над этим делом день, другой, третий, работает неделю, другую… Работает с ним и Павлуша Ягужинский, которому царь велел приучаться к «сыскным делам», узнав верность его глаза, его необыкновенную сметку и находчивость, такую находчивость, подмеченную им только в евреях, что он кажется и в пуде пороха нашел бы маковое зерно. Впрочем, Павлуша давно уже не Павлуша, а Павел Иванович, ему пошел двадцать четвертый год, хотя Головкин доселе никак не может привыкнуть к этому: все зовет его Павлушею.
Вот и теперь в Витебске, в главной походной квартире царя, сидя в просторной комнате у стола, заваленного бумагами, молодой Ягужинский перебирает какие-то письма, приложенные к показаниям Кочубея. А сам Гаврило Иванович «на розыске» — пытает доносителей… Лицо Ягужинского такое печальное. Нет-нет да откинется от стола его красивая голова с бледным лицом и черными ласково-грустными глазами, и на этом лице выражается не то тоска, не то физическая боль… Он, кажется, прислушивается к чему-то, хотя ничего не слышно, кроме им же производимого шороха бумаги. Но ему как будто слышится стон, долгий-долгий такой, какой — он это слышал уже — пытаемые издают на дыбе или на «виске». Ведь пытают его, отца той, в цветах, кораллах и дивной зелени диканькинского сада, которой вот уже пять лет не может забыть Павлуша: пытают Кочубея, отца Мотреньки… «Мотря» — имя, которого Павлуша не встречал во всей России… Где она теперь бедненькая? Что с нею?.. Тогда ей было пятнадцать лет, а теперь уж двадцать… Помнит ли она Павлушу, как он плакал у них в саду, уткнувшись носом в траву? — Нет! Где помнить? Может быть, она давно уж замужем…
Вдруг глаза Ягужинского с немым удивлением остановились на бумаге, что лежала перед ним в кипе других бумаг. Что это такое?.. Глаза его расширились… Он схватил бумагу — руки дрожат… Это ее имя, имя Мотреньки; но кто ей пишет и что?
«Мое сердце коханое, Мотренько, — жадно читает Ягужинский, — сама знаешь, як я сердечно, шалене люблю вашу милость…»
— Люблю… «шалене» — безумно, что ли, это значит, черт бы его побрал! — шепчет Ягужинский, скрипя зубами от злости. — Кто это, дьяволов сын, ну…
«Еще никого на свете не любив так. Мое б тое счастье и радость, щоб нехай ехала до мене, тилько ж я уважив, який конец с того может бути, а звлаща при такой злости и заедлости твоих родичов. Прошу, моя любенько, не одменяйся ни в чем, яко юж не поеднокрот слово свое и рученьку дала есь, а я вземне, пока жив буду, тебе не забуду…»
— Кто ж этот злодей?.. Нету подписи под письмом… Кому она это слово и рученьку дала?..
Ягужинский так сжал листок, что он превратился в комок, и хотел было швырнуть его в открытое окно, но опомнился: письмо это приложено к делу по доносу малороссийского генерального судьи Василия Кочубея с прочими на гетмана Ивана Степановича Мазепу якобы о измене оного[1]… Его бросать нельзя — за это самого в застенок поведут.
Но вот другое письмо, писанное тою же, по-видимому, старческою рукою. Ягужинский читал:
«Мое серденько! Зажурилемся, почувши от девки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при себе не задержалем, але дослал до дому. Уваж сама, що б с того выросло. Першая: щоб твои родичи по всем свете разголосили, же взяв у нас дочку у ночи гвалте и держит у себе место подложнице. Другая причина: же, державши вашу милость у себе, я бым не могли жадною мерою вытримати, да и ваша милость так же: мусели бы смо из собою жити, як малженство кажет, а потом пришло бы неблагословение од церкви и клятва, жебы нам с собою не жити. Где ж бы я на тот час подел? И мне б же чрез тое вашу милость жаль, щоб есь на мене напотом не плакала».
— Проклятый!.. Значит, она-то была у него уж, а он отослал ее к родителям, и она знать печалуется об нем… У! Аспид!.. Ночью гвалтом взял… подложница… она-то! Голубица чистая… Да еще «жить» с ним — малженство… Господи!
Ягужинский схватился руками за голову… То, о чем он думал пять лет, что не выходило из его памяти и сердца ни под гул пушек в виду шведских войск, ни под стук топоров на стройке кораблей, ни под резкий скрип неугомонного царского пера, ни в церкви при пении клира, — теперь это дорогое, далекое, милое разом разбилось… Остались только эти проклятые бумаги, перья…
Но может быть, она не любит его? Да и как, если б любила, письма от любимого человека попали бы в это проклятое дело? Да и зачем они тут? Зачем Кочубей привез их с собою? Не хотел же он срамить свою дочь…
Как ни был находчив Ягужинский, который, по уверению царя, мог найти маковое зерно в пуде пороха, но тут он растерялся. Дело касалось его самого — его сердца, его тайных дум… А он так долго ждал, все надеялся — авось царь повернет в Малороссию или его пошлет зачем-нибудь туда, в этот цветочный рай, в Диканьку… И вдруг — что ж это такое!
Но живуча человеческая надежда: это самое живучее в мире животное, живучее, кажется, чумного яду…
Ягужинский опять схватился за письма, опять читает:
«Мое серденько, мой квете рожаной! Сердечне на тое болею, що на далеко од мене едешь, а я не могу очиць твоих и личка беленького видети. Через сее письмечко кланяюся и вси члонки целую любезно…»
— Все «члонки» — дьявол!.. А что ж нет ее писем?.. Нет ли дальше?
И Ягужинский перелистывает лежащую перед ним кипу писем, ищет, но все видит один этот проклятый почерк да режущие глаз слова: «Мотренько», «коханая», «серденько», «личко беленькое», «ручки», «ножки»… Голова идет кругом!
Нет, надо читать все по порядку. Может, так и сыщется правда. И он скрепя сердце читает:
«Мое сердечко! Уже ты мене иссушила красным своим личком и своими обетницами. Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, щоб о всем размовилася з вашею милостью. Не стережися ей ни в чем, бо есть верная вашей милости и мине во всем. Прошу и вельце, за ножки вашу милость, мое серденько, облапивши, прошу не откладывай своей обетници…»
— За ножки облапивши… Медведь проклятый! Просит об чем-то: что-то она ему обещала…
Ягужинский с горем и бешенством падает головою на бумаги, которые капля по капле брызгали ядом на его молодое, в первый раз полюбившее сердце…
В эту минуту в дверях показалась колоссальная фигура царя, который, сильно нагнувшись, чтоб не стукнуться своею высоко посаженною головою об косяк низкой двери, теперь выпрямился во весь свой исполинский рост и с удивлением глядел на лежащую на кипе бумаг чернокудрую голову юного царедворца. В глазах его мелькнул как будто гнев — так часто эта искра, не всегда, впрочем, гневная, светилась в пронизывающем взоре, — тогда как губы передернулись улыбкой.
— Что, Павел, уснул над делами? — сказал он, делая шаг вперед.
Ягужинский вскочил как ужаленный. Бледное лицо его залилось румянцем.
— Я не сплю, государь! — сказал он быстро, глядя в глаза царя. — Я задумался над этими письмами.
— Над какими это? — и царь подошел к столу.
— В деле по доносу на гетмана… Я еще не все, государь, сии письма прочел и не нахожу подписи, чьи они быть должны.
Царь взглянул на письма.
— А! Рука гетмана… Тебе она не ведома поди: ты недавно у дел… Сии письма писаны — я знаю о том — писаны им Кочубеевой дочери… Все прочел со вниманием?
— Не все еще, государь, читаю только.
— Улик не сыскать поди?.. Намеков каких?..
— Улики есть, государь! — отвечал Ягужинский смущенно и думая о чем-то: он знал теперь, кто его злейший враг, кто отнял у него самое дорогое в жизни; он вспомнил теперь и выражение лица Мазепы, когда в саду Диканьки он ехидно смеялся: «У вас-де не до жарт…»
— Как? Улики, говоришь? — встрепенулся царь, и лицо его разом сделалось страшно, похоже на то, как тогда, давно когда-то, — Павлуша был еще маленьким тогда, четырнадцатилетним мальчиком и жил у Головкина, — когда в Преображенском рубили головы стрельцам. Ягужинский растерялся.
— Улики! Покажи!.. Так ли ты понял?
— Да вот, ваше величество, и из сего письма явствует, — указывал Ягужинский на лежавшее сверху письмо, краснея и запинаясь.