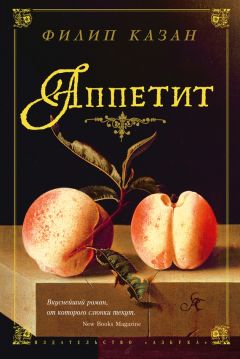– Ты видел моего отца? – Я схватил Арриго за руку и чуть не полетел вверх тормашками, поскольку одновременно пытался натянуть поношенные шерстяные штаны.
Арриго спокойно поставил меня на ноги.
– Нет. Мясники сказали, он ушел в Синьорию. Каренца, боюсь, была вся в слезах. Но не тревожься: все уляжется. Все говорят о том, какой это вышел хороший розыгрыш, как хитро мессер Лоренцо все устроил. О тебе, конечно, тоже говорят…
– Что говорят?
– Что ты дурак. Что чересчур умничал себе на беду, слишком был самоуверен.
– Самоуверен…
– А ты думал, что они скажут? Это-то как раз и хорошо. По крайней мере, никто не болтает, что ты влюблен в Тессину. Все разговоры не о ней, а только о тебе и твоей глупости.
– Слава Богу!
– Именно. Как я сказал, все уляжется довольно скоро.
– Как скоро?
– Может, через пару лет. Может, через четыре или пять.
– Пять лет?! Ты сказал, пять лет?!
– Вряд ли больше. Пять лет провести в Риме – да как по мне, ты счастливчик. – Будто чтобы пресечь оскорбительную отповедь, готовую слететь с моих уст, Арриго протянул кожаный кошелек. – Твои деньги. Меч и кинжал при тебе: хорошо. О, чуть было не забыл… – Он полез за отворот дублета и вытащил сложенный лист пергамента. – Я встретил на улице Сандро, он шел узнать, может ли чем-нибудь помочь. Я сказал, что не может, но он потащил меня в боттегу. Передал вот это для тебя.
Я неловко развернул пергамент, думая, что знаю, чем он окажется, – и угадал наполовину. Там был рисунок – как я решил сначала, из тех набросков, что Сандро делал с Тессины. Но обнаружилось, что это простой эскиз для Богоматери с Младенцем: лицо Младенца очерчивала всего пара линий, молодая женщина смотрела куда-то в пространство за моим левым плечом.
– Сандро пытался найти еще что-нибудь, – сказал Арриго. – От его ругательств чуть потолок не обрушился, серьезно, пока он искал свои рисунки. Но ты же знаешь, что у него там за место: сплошной чертов хаос. А я спешил, так что он послал тебе это… Хм… Она чудесна.
– Скажи Сандро…
– Скажу. Не волнуйся. Теперь поезжай. Чуть дальше будет паромщик. Переправишься через реку – направляйся в Сан-Каджо, а как доберешься до Сиенской дороги, держись ее.
– Спасибо, Арриго. Если сможешь увидеть Тессину…
– Забудь Тессину, Нино. Просто забудь. Так должно быть, и нет смысла притворяться, что так не будет. Забудь обо всем этом.
– Но тебя-то я увижу снова…
– Конечно. Я тоже уезжаю. Еще в Прато я решил: к черту папашины дела. Я собираюсь стать солдатом. Ты едешь на юг, а я отправлюсь на север, найду банду какого-нибудь кондотьера. Увидимся в Риме. Все наемники в конце концов приезжают в Рим, рано или поздно.
– Мир кончается, – ошеломленно произнес я.
Ту первую ночь вне дома я проспал в канаве, где-то в тени холмов Кьянти. Ну, не так чтобы совсем в канаве: это был каменный сарайчик в углу виноградника, с прочной крышей из дрока и плоских камней. Но лучше бы в канаве: удобство сарайчика и то, что он выглядел почти как хижина отшельницы в Санта-Бибиане, только ухудшали дело.
В пределах видимости вроде бы не было никакой усадьбы, а ближайший дымок поднимался милях в полутора, так что я привязал коня, где его не будет видно с дороги: позади сарая, в миндальной рощице, и расстелил одеяло на утоптанном земляном полу. Достал вино, купленное в Поджибонси, и разложил на платке ужин: две колбаски, кусок пекорино, яблоко, четверть буханки жесткого хлеба из каштановой муки, горсть изюма, слипшуюся в комок. Все это выглядело не слишком привлекательно и вообще мало походило на пищу. Я пил вино и ковырялся в изюме, глядя, как долина становится оранжевой, а потом, когда солнце село позади меня, она сделалась серой. Моя голова достаточно отяжелела, и я улегся у полуприкрытой двери так, чтобы смотреть наружу, в переплетение виноградных лоз, и погрузился в дрему. Уснув наконец достаточно крепко, чтобы видеть сны, я обнаружил, что лечу, качаясь, как лодка на бурной воде, над улицами Флоренции, которые кишели насекомыми размером с человека, суетливо копошащимися и издающими крайне омерзительный смрад. Я взлетел выше и увидел: то, что я принял за свой город, было полусгнившим трупом, а ветер, на котором я качался, был зловонным паром от его разложения. На этом я, к счастью, проснулся.
Ощущения в горле были не лучше, чем атмосфера в той канаве. Я проковылял наружу и помочился на лозы. В слабом свете четверти луны виноградник казался нагромождением невнятных форм. Я содрогнулся, вдруг ощутив, насколько тут тихо: ни одного признака человеческого присутствия, кроме моего собственного прерывистого дыхания. Почти все ночи своей жизни я провел в окружении пятидесяти тысяч человек, и вот я здесь, у подножия Кьянти, совершенно один, если не считать коня, пары летучих мышей и какого-то количества насекомых.
Вина не осталось, воды тоже. Жажда была мучительна, но я вспомнил про яблоко и сгрыз его. По счастью, оно оказалось кислым и сочным и хоть как-то облегчило мои страдания. Но я не отважился снова заснуть, а вместо этого поплотней завернулся в одеяло и уселся в дверном проеме. Думать мне было не о чем, кроме как о Тессине, а это причиняло боль, как прикосновение к свежему ожогу, так что я позволил холодному свету притупить мои муки и словно инеем окутать сердце.
Я оседлал коня рано, до рассвета, и через несколько миль дороги мы наткнулись на крестьянина, идущего на север, к Флоренции, с тележкой, полной товара. Он с радостью продал мне, по ценам как на рынке, несколько персиков и салями вполне приличного вида. Чуть дальше по дороге обнаружилась деревня с холодным свежим родником, бьющим из мраморной тумбы возле запертой часовни. К этому времени на дороге стали появляться группки людей. Они все выглядели как паломники, и я ловил обрывки разговоров на трескучих и лязгающих северных наречиях. К обеду толпы почти полностью запрудили дорогу: повозки с монахинями, старики в носилках, господа на дорогих лошадях. К тому времени, как показался Монтериджони, стало ясно, что мне не найдется места ни в одной приличной таверне. Улицы были забиты мужчинами и женщинами, и все они болтали на странных незнакомых наречиях. Я поехал дальше, к Сиене, и остановился у дороги, чтобы съесть свою сухую и соленую провизию. Дорога вела меня по слегка холмистой, заросшей густым лесом местности, где людей практически не попадалось. Конь будто бы радовался одиночеству и тени деревьев, потому что перешел на рысь, потом на легкий галоп, с которым, как оказалось, я вполне хорошо справлялся. Так и получилось, что мы прибыли в Сиену до заката.
Поскольку на дороге я почти никого не видел, а шумных паломников оставил позади, то полагал, что в Сиене будет нетрудно найти койку, но тут я жестоко ошибался. Похоже, весь город работал только на то, чтобы направить путешественников в жадные руки слишком дорогих таверн и завшивленных постоялых дворов. Я знал название одного трактира – отец там как-то останавливался много лет назад – и принялся искать его.
Пока я проезжал по главной улице, меня успели освистать, высмеять откуда-то из теней, на меня наседали проститутки и орали люди, стоящие в дверях харчевен и ночлежек весьма гнусного вида. Все кухонные запахи были тухлыми, прогорклыми или скисшими: сгоревшее масло, жарящее негодный бекон. Варилось огромное количество капусты, а еще больше подгорало на дне выкипевшего горшка. В это вплывал косяк полупротухшего карпа, преследуемый сосисками, слепленными из слизи со стенок помойного ведра недельной давности. Я поперхнулся и зажал рукавом нос и рот. Меня мутило от вони, но повсюду вокруг в двери тех самых таверн, что изрыгали эти ароматы, входили паломники, полные радостного предвкушения прекрасной еды. Передо мной вертелся сводник, скалясь как обезьяна, и пытаясь поймать мой взгляд.
– Знаешь таверну «Золотая рыбка»? – рявкнул я на него.
Мгновенно его лицо закаменело, и он сплюнул.
– Где здесь можно найти такое место, чтоб не казалось, будто ужинаешь в нужнике? – спросил я, понукая коня идти вперед и заставляя сводника отскочить с нашего пути. – А? Есть в этой Сиене такое место, где бы не воняло, как у дьявола в заднице? Если да, отведи меня туда. Если нет… – Я продолжил путь вверх по холму.
В конце концов я нашел «Золотую рыбку», спросив каких-то людей, чинивших стену дома. Трактир оказался на другой стороне города, вдали от паломников, хотя изрядное их число уже уютно расположилось в простом, но удобном общем зале. Я спросил насчет постели, и мне сказали, что придется ее с кем-нибудь делить. Вспомнив о вчерашней ночевке в сарае, я неохотно согласился.
Нашлось местечко и за длинным обеденным столом, а я умирал с голоду. Поручив коня конюшенному мальчику и вылив себе на голову бадью колодезной воды, я уселся на скамью перед оловянной тарелкой, чью поверхность покрывала паутина царапин от бесчисленных следов ножей. Справа от меня сидел дородный француз, слева – седовласый человек в одеждах ученого богослова, который приехал из какого-то места под названием Уэльс. Миловидная девушка с отмеченным оспой лицом ходила туда-сюда вдоль стола, черпая что-то из большой миски. Когда это нечто шлепнулось на мою тарелку, я узнал в нем риболлиту – наш старый добрый тосканский суп из капусты и хлеба, вываренный до состояния полужидкой грязи. Человек из Уэльса налетел на это со своей ложкой и принялся поглощать, словно манну, а француз, чуть поколебавшись, приступил к еде с удовлетворенным фырканьем. Я потыкал вязкую груду ложкой, наклонился к ней и понюхал – и опять ощутил те же сомнительные запахи: пердеж и посудные помои. Это была не риболлита. Это вообще была не еда. И тем не менее все вокруг меня, и мужчины и женщины, совали это в рот и жадно глотали, словно стадо кабанов.