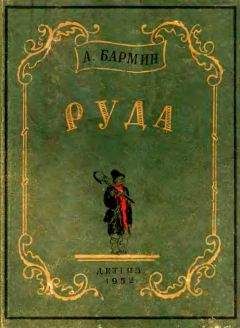— Не настоящее дерево. Фу ты!.. Может, и кони неживые. А, Егор?.. И собачонка эта тоже. Паршивая какая! В такую теплынь дрожит.
Голая тоненькая собачонка стояла на дорожке; она дрожала всей кожей и поджимала одну лапку. Егор рассмеялся.
— Это настоящая. А есть тут и такие, что один голос, а тела нету… Цытринька, — вспомнил он, и перестал смеяться. — Собачонка-то царицына. Верно, и сама царица тут стоит.
Егор вытягивал шею, как мог, собачонка визгнула на него и убежала.
Егор отошел от окна. Заметят — только хуже будет. Вот попал в капкан…
— Чш-ш… Слышишь? — Санко показал рукой в темноту подвала.
Притихли. Осторожно скрипнула дверь — не входная, а там, где Санко нашел сумку, — за сундуками посветлело, кто-то шагнул раз, другой и звякнул стеклом.
Егор схватил Санка за рукав, потащил за собой к свету.
За поворотом стал виден маленький прямоугольник открытой двери и от нее четыре ступеньки вниз, сюда. На нижней ступеньке стоял человек самого важного вида — толстый, в шитом позументами платье, в парике, с холеным лицом, — и прятал сверток в сумку. Он услышал шаги и испуганно крикнул: «Вэр да?»
Егор выступил на свет.
— Ти! Как попаль здесь? — сердито спросил человек. — Кто есть ти?
— Ловцы из зверинца, — ответил Егор. — Посажены здесь птиц кидать. А эта дверка куда?
— Птиц? — Человек выругался и велел итти к своим птицам.
— Чего ругаешься? — рассеянно возразил Егор, очень занятый дверью: ему хотелось взглянуть за нее.
— Мальчи!
— Сам молчи, холуй.
— Егор, Егор!.. — Санко тянул Егора за кафтан. Но тот не унимался.
— Воруешь, толстомордый, а на честных людей кричишь. Чего опять стащил?
— Егор! — Санко даже присел в испуге. С важным же человеком произошла неожиданная перемена. Он оглянулся на дверь, прикрыл ее немного и, протягивая Егору бутылку, самым дружеским голосом сказал:
— Ним, ним!.. Ха, кримс-крамс! Кушать эйн клейн вениг.
— Сам кушай!
Егор решительно взбежал по ступенькам и выскочил в дверь. Оказался в низком сводчатом коридоре. Наобум побежал направо, миновал несколько пустых комнат, наконец услышал голоса. Двое лакеев несли на плечах свернутый в длинную трубку ковер. Едва успели они раскрыть рты, завидев бегущего парня в русском кафтане, перепачканном пылью, как Егор шмыгнул мимо них. Еще встреча: старичок с охапкой деревянных молотков и корзиной шаров. Егор оттолкнул корзину и выскочил в большие парадные сени. Из верхних покоев спускалась широкая мраморная лестница, вся в цветах. Двери на крыльцо распахнуты. За спинами стоявших столбами лакеев Егор прошел на крыльцо. Он ничего не думал, — какая-то волна несла его, — потной рукой сжимал мешочек в кармане.
На крыльце задержался на секунду. От него шарахнулись: очень уж отличался он по виду от придворных кавалеров, еще более разряженных, чем на охоте. Секунды Егору было достаточно — увидел царицу.
Царица стояла около запряжки малюток-лошадей и вытирала платком руки. За ней возвышался гайдук с блюдом в руках, на фарфоре чернели ломти хлеба.
В следующую секунду Егор был внизу и направлялся к царице.
— Ваше величество, — услышал он свой спокойный голос и похвалил себя: хорошо начал. — Ваше величество, в Сибирской стороне на Урал-камне изобретено песошное золото. Открыл рудоискатель Андрей Дробинин, а я намыл и привез объявить вашему величеству.
Выхватил мешочек, — не развязывается, затянул шибко. Зубом ослабил и, распутывая завязку, превесело улыбнулся: всё гладко идет. Тут только разглядел царицу. Она наморщила жирный лобик, смотрела на Егора в недоумении, — видимо, ничего не поняла из сказанного им. Царица была похожа на свой портрет в екатеринбургском Главном правлении, но еще больше похожа на жену лесничего Куроедова. Обыкновенная барыня. Две сосульки черных волос спускались на грудь. Глаза неживые, с тяжелым взглядом, одно веко опущено ниже другого. Большая верхняя губа. Лицо подперто вторым подбородком. Куроедиха — и полно!
А пальцы Егора делали свое дело: мешочек развязан, часть золота высыпана на ладонь. Давно задумано было пасть на колени, поднося золото, но двойной подбородок не позволил: перед Куроедихой-то на колени! Раньше думал — царица всегда в короне ходит.
— Вот, ваше величество, крушец, доселе незнаемый в России. И, должно, имеется в большом изобилии.
Совал ладонь, полную золота, и мешочек. С тем же недоуменным лицом царица протянула обе руки. Егор (это потом, много позднее, вспоминалось) еще заставил ее подождать: стал ссыпать золото в мешочек, роняя зерна на землю. Ссыпал, подал в царские руки, как мечталось.
Царица с беспомощной улыбкой обернулась направо, налево… По оба ее бока еще раньше выросли две фигуры: Артемия Волынского, в малиновой ленте по белому камзолу, с загоревшимися на худом лице глазами, и герцога Бирона, в голубой ленте, откровенно раздосадованного. Рука с мешочком качнулась было к Волынскому, но задержалась и поплыла в обратную сторону, к герцогу. Бирон с поклоном принял золото.
Егор отступил назад. Придворные оглядывали его с любопытством и неприязнью. Царица села в обитую красным бархатом колясочку, поспешно усаживались дамы и кавалеры.
— Герр Шемберг, — негромко сказал Бирон, которому подвели оседланного коня. Румяный, лакейски развязный в движениях человек, в зеленом мундире с орденами, подскочил и склонился перед герцогом. Тот передал ему Егоров мешочек, прибавив несколько слов по-немецки. Потом герцог взлетел в седло и отъехал к колясочке Анны Ивановны.
— Звание, имя? — услышал Егор за плечом. Повернулся — Волынский.
— Унтер-шихтмейстер екатеринбургских заводов Егор Сунгуров.
— Где стоишь?
— В Охотничьей слободке.
— Иди.
Пошли дожди, и даже не дожди, а один непрерывный, мелко сеющий, унылый дождь. Обвисло серое небо; на дорожках в лужах лежали мокрые листья; падали жолуди, похожие на майских жуков. Сыростью пропитывались жилища.
Егор Сунгуров ждал: вот-вот позовут его к царице. Двор переехал в столицу на другой же день после парфорс-ягда. Дворцы и сады Петергофа опустели. Бумаги и деньги на обратный проезд выдали всем ловцам, и они, кроме уральцев, поразъехались. Ипат и Санко решили ждать Егора, жили втроем в просторной избе. Охотничье начальство их не трогало: кто знает, какая фортуна лежит перед ловким пареньком? Сама царица удостоила принять от него сибирское подношение, шутка ли!
— Егор, тебя, видно, спрашивают! — вбежал как-то Санко, ухмыляясь во весь рот. У Егора заколотилось сердце. Вот когда!.. Обдернулся, провел ладонью по волосам, степенно вышел на крылечко.
— Меня, что ли, надо? — спросил он высокого человека в егерском мундире и хорошей выправки, ожидавшего у избы.
— Не знаю, тебя ли… Я — государынин биксеншпаннер Второв. Скороходы сказывали, кто-то из сибирских ловцов знает моего брата Марко. Не ты?
— Скороходы?.. Марко?.. — Егор потускнел. — Не видал я Марка никогда. А дело было так: да, в куренном балагане ночью, темно было, один работник признавался, что был в царских скороходах. Звать его, верно, Марко, а прозвище какое, — не ведаю.
— Где это было? Друг, пойдем ко мне! Расскажешь всё толком. О Марке два года вестей нет, а пострадал он безвинно. Пойдем, право. Что тут мокнуть?
Егор колебался:
— Уходить-то мне… Вызова жду.
— В контору?
— Нет. — Егор хотел сказать: «к царице», но не сказалось. — По крушцовым делам.
— Ты, что ль, золото государыне привез?
— Я.
— Могут вызвать, конешно. Скажи земляку, что у Второва будешь. Здесь близко дом мой.
Светлица в доме Второва обширная. Синие кораблики на изразцах печи. Ружья по стенам. Над часами — кабанья голова. В простенке — высокое зеркало. Лавок нет, а стоят черные, с резными спинками стулья. Жена у Второва пышнотелая — из купчих, похоже. Детишки кормные, непугливые.
Второв положил локти на стол, уперся головой на ладонь.
— Хоть то знать, что жив, — проговорил он задумчиво. — В скороходах другого Марка никогда не бывало… Беда такая с ним вышла. Устроил я его в скороходы, недели три, не больше, прослужил он… На балу у его светлости, видишь ты, потеряла цесаревна Елизавета Петровна с головы трясидло. Трясидло, или, называют, тринценес, — украшение такое. Камень на нем брильянтовый, большой цены. Туда, сюда… В этой палате еще было в волосах, видел кто-то. Хватилась когда — и сама не помнит, где еще побывала. «Через ту шла» — на, вот тебе! А брат, Марко-то, там и стоял у дверей на посту. Допрос. Он, конешно, отпирается. Ну, князь Волконский услышал про всё, говорит: «Видел я, как он наклонялся, поднял что-то с полу». В Тайную канцелярию. «Поднимал ли что, — говорит, — и сам не помню, а трясидла не видал». Вот тогда я сказал ему: слушай, мол, Марко, если твой грех, положи тихонько в мягкий диван или дай мне, я положу. Меж сиденьем и спинкой у диванов, видишь ты, глухая пазуха есть, оттуда чего только после балов не вытаскивают: и цыдулки, и конфеты, и веера потерянные, и блохоловки серебряные…