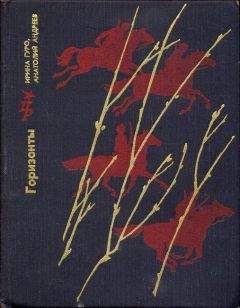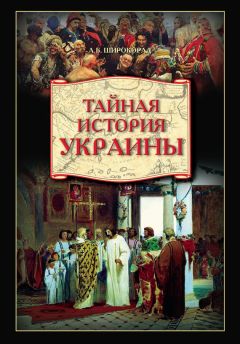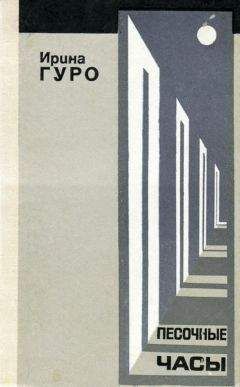Какие-то голоса со скотного двора долетали до слуха Фроси.
И вдруг она вспомнила рассказ Василя об убийстве девушки, которую он любил… «Да это же он! Со шрамом! И потому матушка утаила…»
Это открытие доконало ее. Теперь она должна была не только рассказать Семену о себе… А это одно уже было страшно и мучительно. Но она должна была еще обязательно рассказать об этом человеке со шрамом, который имел документ из какого-то села на Старобельщине, но был совсем не тем, за кого он себя выдавал. И теперь она знала наверное, что это был убийца Софьи.
В бедной ее голове среди множества мыслей, страшных, разорванных, путаных, была только одна ясная, но и беспощадная: он уйдет от меня! Все будет кончено. Если даже она встретится с ним! Если даже это произойдет, он не останется с ней…
Ранним светлым утром она шла через лес к восьмичасовому рабочему поезду. В такое утро, казалось, не может случиться ничего дурного. Но Ефросинья знала: все на свете не таково, каким кажется. Разве не благостным, не мирным от веку был для нее монастырь? Разве пугали ео долгие годы за белой монастырской стеной? Не оттуда ли, из-за стен, приходили в монастырь страшные слухи и вести? Не в миру ли, за стенами безвозвратно терялись ушедшие из монастыря подружки?
И вот случилось: самое дорогое для нее оказалось в миру, а стены монастыря ограждали ее от счастья, от ее доли. И кажется, оградили прочно.
Акация вокруг дома Марьи Петровны уже давно отцвела, но в палисаднике ярко рдели сальвии. На клумбе, обсаженной сероватой декоративной травкой, они выглядели так весело… Вдруг Фросе почудилось, что на пороге ее встретит Семен. Но это было невозможно. Он не знал, когда она приедет.
Зато ее, по обыкновению, бурно встретила Марья Петровна.
— А Семен-то все ходит, все ждет тебя… Вот оставил адрес, где он сейчас…
Как? Семен не в общежитии? Ну конечно. Как могла она забыть! Ведь Семен уже окончил курсы. Ждал назначения, а она забыла об этом.
Фрося собралась тотчас же. Трамвай долго вез ее по городу, по длинной Екатеринославской, потом по широкой нарядной Сумской. Ей казалось, что это путешествие никогда не кончится… Дом оказался загородный, старая дачка. На терраске за деревянным столом сидел с книгой Семен…
Ночь пролетела, как мгновение: последняя перед разлукой. Семен уезжал на Старобельщину. В эту ночь Фрося рассказала о себе. Без страха, без опасений — с уверенностью: ничто не помешает их любви.
Семен обещал вызвать ее, как только обоснуется в Старобельске.
Почему-то так получалось, что дурной, ну наскрозь дурной Алешка Хоменко приносил в Терновку самые важные известия. Курносый неслух, притча во языцех всей деревни, которому ни одна терновская девка не позволяла не то что за пазуху залезть, а даже легонько плечом толкнуть на посиделках, — именно он, хоть на незавидном Гнедке, но словно бы на белом коне, победителем, полным ходом въехал в пределы Терновки. И хотя на подводе дребезжали у него два пустых бидона — он так и не разжился в Старобельске керосином, — но то, с чем он приехал, было важнее не то что двух бидонов, а целой бочки керосину! И при всей своей дурости Алешка Хоменко понимал это отлично. И потому, не распрягая коня, бросил все как есть у тына и вбежал в хату точно угорелый.
— Куды, нехристь, в шапке прешься? — раздался с печи голос деда.
Удивительное дело, пять лет прошло, как дед обезножел, с печки слезает только к столу да до ветру, глаза незрячие, слезой точатся… А все, лешак, знает, ну все, все, как сам господь бог!
И Алешка поспешил сорвать с головы картуз.
Он видел спину отца, привычно согнутую над работой: обувку для всей семьи отец чинил сам. И в лучшие времена — тоже, а теперь и подавно, говоря при этом: «Скоро по миру пойдем, крепкие подметки надо».
Алешка не верил, что они могут пойти по миру. Привык за спиной отца. Твердо знал, что отец все может. Ущербу не потерпит. Никогда.
Как всегда, он и не шелохнулся, не взглянул на вбежавшего опрометью Алешку, словно весь ушел в свое дело. Только лопатки под ситцевой рубашкой знакомо напряглись: отец точно слушал этими лопатками, какие такие важные новости привез Алешка с базара. А то, что керосиновые бидоны дребезжали на телеге, а следовательно, были пустые, он своими чуткими лопатками уже, конечно, услыхал. И быть беде, поэтому Алешка не переводя дыхания выпалил:
— Тату! Тарас Иванович благодарил за мед и наказал вам передать, что все, мол, в порядке. Керосину нема, а на базаре, я чув, прибыла комиссия и будут хлеб брать. А усих девок сгонят в якийсь, сдается, СОЗ чи ТОЗ!
— У-у Дурне сало! Тута воны. Поперед тэбэ заявылысь! — отец резко повернулся, и Алешку холодом обдало.
Невидный из себя, сухощавый, с узким темным лицом был Кондрат Хоменко. Длинные руки висели плетьми, а тяжелые кисти словно жили сами по себе: то в кулаки сжимались, то растопыренными пальцами будто готовились схватить. Короткие ноги, однако, ступали твердо, и при всей своей сухощавости, даже бестелесности, казался Кондрат тяжелым, почти грузным. Впечатление это исходило не от тела, не от лица в редкой темной бороде клинышком, удлинявшей и без того острое и длинное лицо, а от взгляда. Взгляд был особый: прилипчивый и тяжелый. Светло-голубые глаза, круглые, без прищура, как у птицы, сверкали белками синевато-белыми, словно у цыгана.
От отцовского взгляда пропало у Алешки все настроение, и новость насчет девок, не дававшая ему покоя всю дорогу, потеряла всякий смак. Сразу поникнув, собрался он было в пристройку, где хозяйничала мать. Алешка знал: она-то уж углядела его и орудует у печи ухватом… Но отец бросил коротко:
— Ступай скажи дяде Антону, чтоб зараз пришел. Проглотив набежавшую слюну и тоскливо прислушиваясь к громыханию чугунов в пристройке, Алешка пошел со двора.
А по дороге вдруг призадумался: какого рожна отец сгонял его в Старобельск, когда сам был там не дале как третьего дня? И, почитай, просидел все время с Тарасом Ивановичем Титаренком в его доме, что подле водокачки. Об этом Алешке рассказала Титаренкова дочка Клашка.
К чему бы этот разговор? И с чего бы Клашка «со значением» моргала, когда рассказывала Алешке? А? Зачем это ему: ну, сидели, ну, почитай, целый день… Ему-то, Алешке, что?
Вот тут он припомнил, что еще говорила красивая Клашка, фигуристая девка — кругом шешнадцать. И волосы закручены, как у барана. Они, говорит Клашка, три графинчика водки высосали, да не счесть, сколько браги… Два кольца колбасы домашней смолотили и сала — от пуза. Во мужики!
Алешка тогда так понял, что Клашка как бы ему в пример, в пику языком трепала: «А ты, мол, орясина, на это неспособный».
Но теперь Алешку просто-таки пронзила другая мысль… С какой такой радости, не в красный день, не в праздник, рассиживались батьки? По какой такой надобности выставил Титаренко царское угощение Алешкиному отцу? Кто он ему — кум, сват? Или какой еще свойственник?
Невиданное это было дело. И могло означать только одно: а не сватает ли отец за Алешку Титаренкову дочку?..
От этой мысли Алешку пробрало холодом, а затем сразу бросило в жар.
И он бегом бежал до самой дядиной хаты.
Дядя оказался дома и тотчас собрался. По дороге Алешка, краснея и запинаясь на каждом слове, высказал свои соображения насчет сватовства: дяди он не боялся. Но тот, рассмеявшись, твердо сказал:
— Ни, тут друге дило. Зовсим друге. И не мечтай.
К ночи выморозило. Воздух стал чистый, сухой. Похоже, скоро завернут большие холода. Из глубокого оврага за околицей Терновки падала черная тень на седую бровку луговины. Ни одно окошко не светилось. Спала Терновка. Или бодрствовала в темноте, прислушиваясь?
А в двух окнах сельсовета горел свет. И хотя каждый знал, что всего и света там — от одной керосиновой лампешки на столе председателя, бывшего красного партизана Евсея Крамаренко, был этот свет значительным и спать не давал. Едва вспыхнул он за плохо вымытым стеклом неказистой сельсоветской хаты, уронил, прильнув к окошку, Кондрат:
— Ось, бач, сыдять…
Сказал, не ожидая услышать ответ. И Антон не ответил. В бутылке на столе еще что-то оставалось, но пить не хотелось. И каганец зажигать не хотелось.
Антон смотрел в спину брата. Тот все еще сидел лицом к тому огню в окне сельсовета, шевелил лопатками. Со смутной тревогой Антон соображал: «Чего он задумал? Зачем меня позвал? Позвал и молчит. Так молчком и сидим который час».
От выпитого клонило ко сну и мысли теснились в голове. Вспоминал разное, вроде, и ни к чему.
Кондрат был старший, а хилый. А отец любил его больше, чем здоровилу Антона: тот, мол, кулаками и сам пробьется… Конечно, повернись судьба Антона по-иному, был бы он вровень с братом в глазах отца. Судьба ли? Судьбой ли его обернулась бесприданница Олеся? А то, что отец хотел женить его на поповской дочке, так ведь и сам-то поп о том и не помышлял: искал для нее грамотея. И надо было еще попа охмурить, если бы даже Антон и согласился на эту носатую…