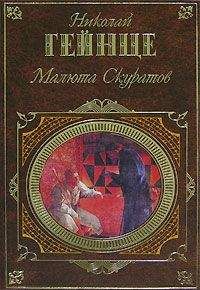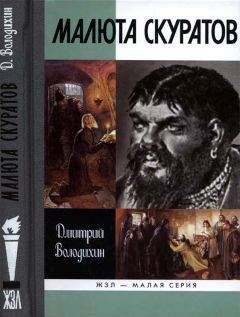Находившиеся в княжеских хоромах также долго не могли прийти в себя от неожиданного удара. Княжну Евпраксию замертво отнесли в опочивальню. Бледный, испуганный насмерть отец Михаил стоял в глубине горницы. Яков Потапович с помощью сенных девушек понес бесчувственную невесту. Князь Василий и Никита в застывших позах стояли посреди комнаты и растерянно глядели друг на друга.
— Что же это значит, брат? Шутка, что ли, над верным слугой? Глумление над ранами моими, над кровью, пролитой за царя и за Русь-матушку? Али может, на самом деле царю сильно занедужилось и он, батюшка, к себе Владимира потребовал!.. Только холоп-то этот подлый не так бы царскую волю передал, кабы была она милостивая, — почти прошептал князь Василий.
— Не видать разве, святая ты простота, — горько усмехнулся князь Никита, — что слопал, видимо, нас рыжий пес, улучил минуту, когда я вперед ускакал, и обнес змеиным языком своим. Такую, быть может, кашу в уме царском заварил, что и не расхлебаешь. Подозрителен государь не в меру; в иной час всякой несуразной небылице поверит, а прощелыга Малюта ой как знает улучить такой час…
— Да чем мы ему-то поперек дороги стали? Я, кажись, далече от царя, а ты с ним был в дружестве…
— В дружестве… — снова усмехнулся князь Никита. — Это было, да давно сплыло; почитай с год как на меня он зверь-зверем смотрит.
— Да за что же?
— А пес его разберет, что в его дьявольской душе таится!.. Танька-ли, цыганка, что перебежала от тебя, да у него, бают, в полюбовницах состояла, чего нагуторила, — ноне мне сказывали, и от него она сбежала, — али на самом деле врезался старый пес в племянницу…
— А, так вот что!.. Теперь я понял… Горе нам, горе! — всплеснул руками князь Василий и, упав на грудь своего брата, зарыдал.
Князь Никита сам стоял погруженный в мрачные думы о неизвестном, тревожном будущем.
— Господь милосерд!.. — подошел к ним отец Михаил. — Скорбь отчаянная — грех тяжкий… Надо спешить к царю, может, вам и удастся расстроить козни вражеские и положит он снова гнев своей царский на милость.
— И впрямь, — заметил князь Никита, — батюшка разумное слово молвил… Едем в слободу… Только бы не было поздно?
Оказалось, на самом деле было поздно. В слободе князей Прозоровских ожидал далеко не приветливый прием: царь не допустил их перед свои очи. Опричники, накануне дружившие с князем Никитою, а иные даже заискивавшие в нем, встретили обоих братьев холодным невниманием и злобно радостными усмешками. Князья вернулись в Москву «опальными». Это страшное слово во всем его тогдашнем громадном значении не совсем и не всем понятно в настоящее время. Не видать очей государевых по его приказу было самым тяжким наказанием для истинно русских душою бояр; в описываемое же время оно соединялось в большинстве случаев с другими роковыми и кровавыми последствиями. «Опала», кроме того, имела и чисто внешние формы, говорившие всем видевшим боярина, что царь повелел ему «отойти от очей своих». Опальный боярин не имел права во все время опалы чесать бороды и волос, а также и стричь их, он должен был ходить в смирной одежде, то есть в кафтане без всякого шитья. Все это, по понятиям того времени, страшно усугубляло тяжесть и без того сурового наказания.
Разное, впрочем, впечатление произвело так неожиданно обрушившееся на них несчастие в уме и душе князей Прозоровских. Князь Никита был положительно убит. Ему казалось, что все это он переживает во сне.
Как, потративши столько ума и хитрости, чтобы быть, не поступая в опричину, одним из первых царских слуг, почти необходимым за последнее время для царя человеком, облеченным силою и возможностью спасать других от царского гнева, давать грозному царю указания и советы, играть почти первенствующую роль во внутренней и внешней политике России, и вдруг, в несколько часов, именно только в несколько часов, опередивши царя, ехавшего даровать великую милость свою в доме его брата, ехавшего еще более возвеличить их славный род, потерять все, проиграть игру, каждый ход которой был заранее всесторонне обдуман и рассчитан! Это невозможно!..
Так думал князь Никита, сидя рядом с братом в просторных пошевнях, с низко опущенною на грудь головою. К этим мыслям еще примешивался страх. Князь Василий не ошибался, его брат был на самом деле малость трусоват. Картины виденных им зверских казней неотступно стояли в его уме.
«Что если и меня ожидает подобная участь?» — возникал у него вопрос.
Красные кровавые круги вертелись перед его глазами.
«Надо себя вызволить… Теперь не до других, даже не до родичей»… — появилась эгоистическая мысль, и он даже искоса злобно посмотрел на брата, как будто он один был виновником этой гнетущей и могущей быть страшной по своим последствиям опалы.
Всю почти дорогу браться сидели молча. При въезде в Москву князь Никита холодно, по обычаю трижды, облобызался с братом, пересел в следовавшие сзади его собственные пошевни и поехал домой. Князь Василий, тоже немало огорченный всем происшедшим, был сравнительно покоен. Оправившись от неожиданности удара, он это душевное спокойствие обрел в глубине своей совести, не упрекавшей его ни в малейшем дурном поступке, ни в малейшем помышлении против царя, того самого царя, который подверг его такому незаслуженному наказанию и позору. Страх никогда не находил места в душе старого воина, так что за свое будущее, готовый умереть каждую минуту, он не боялся. Его сердце томила жалость к брату, утешить которого он не находил слов; в минуту общего несчастья разность воззрений и резкая отчужденность их друг от друга выделялась рельефнее, и те слова утешения, которые он, князь Василий, мог сказать брату, не были бы им поняты. Князь Василий с грустью сознавал это. Беспокоила же его наиболее участь его любимой дочери.
«Что будет с нею? Перенесет ли она постигший ее удар?»
Князь Василий за последнее время видел, как сильно и горячо любила она избранного им ей жениха. На минуту у него явилось даже раскаяние, зачем вздумалось ему устроить эту свадьбу, но честное сердце тотчас подсказало ему отбросить эту мысль. Он с любовью стал думать о несчастном князе Владимире, томящемся теперь в тюрьме или стонущем под пыткой изверга Малюты, и сердце доброго князя обливалось кровью при мысли, что он не может спасти своего спасителя. Затем думы его снова перескакивают на дочь, на княжну Евпраксию.
— Что, как она? — было первым вопросом, который задал князь Василий по возвращении домой, пройдя тотчас же в комнаты дочери.
— Вся полымем горит, грудь заложило, воздуху свободного нету, — отвечала Панкратьевна.
— Опасно? — с дрожью в голосе чуть слышно произнес князь.
— Бог весть, батюшка-князь. С чего приключилося: ежели с глазу, то легче, а ежели с порчи — не в пример тяжелей… А я смекаю, что с порчи, потому я ее с уголька спрыснула, святой водой окропила, и кабы с глазу, давно бы прошло, а тут нет, все пуще… Надо будет теперь ее эроей[16] обкурить, натереть, да и в нутро испить дать, может, и полегчает, Господь милостив! Ты-то себя не тревожь, князь-батюшка!
— Уж ты постарайся, Панкратьевна! — умоляющим голосом произнес князь.
— И что ты, батюшка, у самой сердце болит пуще чем о родной дочери: и просить-то меня тебе как-то не складно!
Князь с поникшею головою ушел в свою опочивальню и там склонился перед образом в жаркой молитве о спасении дочери.
«К чему молюсь? — вдруг внезапно пришла ему мысль. — Не лучше ли будет, коли Господь приберет ее к себе? Что ожидает ее после моей смерти, весьма вероятной, как последствие опалы? Надругание извергов»…
Князь побледнел; холодом сжалось его сердце при этой мысли.
— Господи, да будет воля Твоя! — окончил он свою молитву.
Воля Господа совершилась; княжна Евпраксия стала поправляться, хотя выздоровление ее шло очень медленно. От глубокого обморока, в который она впала с момент увоза ее жениха опричниками, она очнулась в страшной нервной горячке, державшей ее несколько дней между жизнью и смертью. Панкратьевна положительно потеряла голову и даже веру в свое искусство и целительность средств спрыскиванья с уголька наговоренною водою и натирания эроей. Князь Василий ходил мрачнее тучи и за короткое время, казалось, состарился на десять лет. На Якова Потаповича болезнь княжны не производила такого удручающего впечатления; он глубоко верил в то, что она выздоровеет. Будучи, как мы уже имели случай заметить, очень религиозным, он вместе с тем отдавая дань своему времени, был и крайне суеверен. Он был твердо убежден, что начавший уже сбываться его «вещий сон» был неспроста, что это было указание свыше на ту роль, которую он должен был играть в жизни княжны.
«В жизни! Следовательно, она будет жива!» — так рассуждал он.