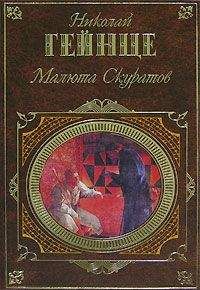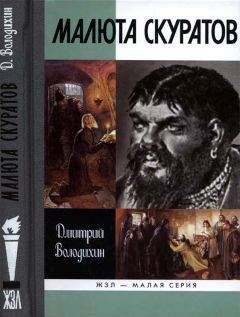«В жизни! Следовательно, она будет жива!» — так рассуждал он.
Самый арест князя Владимира, так поразивший своею неожиданностью всех окружающих, не поразил Якова Потаповича. Он как бы внутренне ожидал его. Он, с самого начала, еще в вотчине, старался отогнать даже от самого себя, а не только сообщать Воротынскому и другим, свое томительное предчувствие, что сватовство княжны Евпраксии не обойдется так благополучно, как оно казалось по ходу дела. Даже тогда, когда сияющий радостью князь Василий вернулся из слободы с известием о снятии опалы с молодого Воротынского и о грядущих обещанных царем милостях, даже тогда, повторяем, из головы Якова Потаповича не исчезла мысль, что должно случиться что-нибудь такое, что повернет начавшую было входить в ровную колею жизнь в доме Прозоровских в другую сторону. Иногда ему казалось, что эта мысль рождалась в его уме из затаенного им эгоистического желания, чтобы безумно любимая им девушка, обладать которой ему не было суждено, не принадлежала никому, и он мучился сознанием этого грешного помышления и всеми силами старался от него отделаться, но оно преследовало его против его воли.
— Нет, это не то, это просто предчувствие. Да и как же может быть иначе? Если все устроится по общему и даже по его искреннему желанию, если жизнь княжны Евпраксии потечет безмятежным руслом, без бурь и треволнений, то что же значит этот «вещий сон»? — говорил он сам себе.
— Что сон, пустяки! — старался он порой, как мы уже видели, уверить себя, но какой-то внутренний голос авторитетно говорил ему, что это далеко не так.
Сквозь мрачное настроение опального боярина князя Василия, в тяжелом, гнетущем, видимо, его душу молчании, в этом кажущемся отсутствии ропота на поступок с ним «грозного царя», в угнетенном состоянии окружающих слуг до последнего холопа, сильно скорбевших о наступивших черных днях для их «князя-милостивца» и «княжны-касаточки», — красноречиво проглядывало молчаливое недовольство действиями «слободского тирана», как втихомолку называли Иоанна, действиями, неоправдываемыми, казалось, никакими обстоятельствами, а между тем Яков Потапович, заступившийся в разговоре с князем Василием за царя еще в вотчине при задуманном князем челобитье за Воротынского и при высказанном князем сомнении за исход этого челобитья, даже теперь, когда эти сомнения так ужасно оправдались, не находил поводов к обвинению царя в случившемся.
— Он является орудием высшего промысла, — думал Яков Потапович. — Его приспешники несомненно более виновны во всех его жестокостях.
Суд беспристрастной истории доказал, что светлый ум несчастного «подкидыша» мыслил правильно. Уверенность Якова Потаповича, что княжна выздоровеет, оправдалась; она стала поправляться, но болезнь положила на нее страшный отпечаток. В этой исхудалой, бледной восковой бледностью девушке можно было с трудом угадать всего за каких-нибудь три-четыре недели тому назад цветущую здоровьем красавицу. Медленность выздоровления обусловливалась, главным образом, отсутствием спокойствия духа — непременным условием для укрепления нервов. Подтачивающая и без того слабые силы молодой девушки мысль о судьбе ее ненаглядного нареченного жениха князя Владимира Никитича не покидала головку выздоравливающей и мешала ей успокоиться и окончательно поправиться.
Окружающие ее были бессильны помочь ей; у них даже не поворачивался язык сказать ей слово утешения. Это слово звучало бы ложью, и все хорошо понимали, что это знала больная; с полною основательностью ее грусти и беспокойства никто не мог не согласиться.
О взятом опричниками, с Малютой во главе, князе Воротынском не было, как говорится, ни слуху ни духу. Где он, что с ним, жив ли он, или уже умер — на эти вопросы никто не мог ответить. Опальный князь Василий не мог ни с кем иметь сношений, а в особенности с придворными сферами, где только и можно было узнать что-нибудь. Князь Никита не появлялся в доме опального брата, несмотря даже на посланное ему извещение о тяжелой болезни племянницы. Он прислал сказать с посланным, что сам болен и ожидает смерти, и что в настоящее время может только завидовать тому, к кому она скорее придет, и желает ее всякому. По этому ответу можно было судить, в каком нравственном состоянии духа находился опальный царедворец, — если только ответ этот не был фразой, добавим мы от себя.
Когда княжна Евпраксия Васильевна настолько окрепла, что могла сидеть в кресле, кроме князя Василия, почти безотлучно находившегося у постели дочери, к ней был допущен, по ее просьбе, и Яков Потапович. С последним бедная девушка отводила душу, говорила и не могла наговориться о ее милом Владимире. Отца она продолжала стесняться и не решалась излить ему все, что наболело на ее душе, а Яков Потапович умел слушать ее жалобы, и хотя этим, за отсутствием и у него какого-либо для нее утешения, был для нее дорогим собеседником. Эгоизм человека, на которого обрушилось несчастье, мешал ей видеть, какой страшной пытке подвергает она любящего ее безгранично человека, мучаясь и убиваясь при нем о судьбе другого, который явился, хотя невольно, но все же причиной ее тяжкой болезни.
— Боже, Боже! — чуть не ежедневно восклицала княжна с отчаянием в голосе. — Хотя бы мне что-нибудь узнать о нем, хорошее или дурное — все равно. Во всяком случае мне было бы легче, чем эта ужасная неизвестность.
Во время одного из таких восклицаний больной, сжимавших мучительною жалостью сердце Якова Потаповича, в его голове блеснула мысль во что бы то ни стало успокоить княжну, разузнав о судьбе князя Воротынского через единственного знакомого ему близкого ко двору человека — его бывшего учителя, Елисея Бомелия.
Это было в последних числах декабря 1658 года.
Царский доктор Елисей Бомелий, вскоре после отъезда Иоанна в Александровскую слободу как свою постоянную царскую резиденцию, тоже перебрался туда на постоянное жительство, и лишь изредка, по большей части вместе с царем, наезжал в Москву и временно останавливался в отведенной ему избе, находившейся, как мы уже знаем, по ту сторону Москвы-реки, невдалеке от хором князя Василия Прозоровского. В отсутствие этот «басурмана, колдуна и чародея», как звали его в народе, жилище его было заперто наглухо, но охранялось скорее страхом суеверия, чем заморскими замками хозяина. Поздним вечером москвичи даже избегали проходить мимо «нечистого капища», как именовали они избу «заморского ученого», стоявшую особняком, среди громадного пустыря. Некоторые московские смельчаки, еще во время пребывания «царского колдуна» в Москве, из любопытства решились поглядеть в окно басурманского жилья, но то, что представлялось в этом жилье их испуганным взорам, навсегда отбивало охоту к дальнейшему любопытству. Они видели худого, черномазого, мрачного видом хозяина с искусно державшимися на горбатом носу стеклами, освещенного пламенем, которое он раздувал какою-то трубкою, а на пламени этом варилось то «чертово зелье», о котором по Москве ходили смутные слухи. Окружающая «чародея» обстановка довершила ужас: черепа и человеческие кости, банки с частями человеческого тела и толстые в кожаных переплетах книги являлись для массы его современников еще большим пугалом, нежели приготовляемое этим «слугой сатаны» «чертово зелье».
Выходец из Германии, даже изгнанник, как уверяет Карамзин, он явился в Москву и, как «иностранный ученый», легко снискал доступ к царю, любившему и ласкавшему «заморских гостей», и вскоре сделался не только его постоянным доктором и астрологом, но прямо необходимым человеком, играя, как и прочие, но еще более искусно, на слабой струне больной царской души: постоянно развивая в нем страх и подозрения, наушничая и клевеща на бояр и народ, дружа с опричниками, видевшими в этом «случайном басурмане» необходимого сообщника и опасного врага. По указаниям последних, Бомелий предсказывал царю бунты и мятежи. Предсказание, естественно, сбывалось, что царь видел по донесениям тех же опричников, и все более и более верил своему любимцу, осыпая его милостями. Ему же приписывают современники мысль, до конца жизни не покидавшую голову подозрительного царя, бежать в крайности за море, для чего, по советам того же Бомелия, царь так ревниво, во все продолжение своего царствования, сохранял дружбу с английской королевой Елизаветой, обещавшей ему безопасное убежище от козней крамольников-бояр. Невежда даже в современной ему медицинской науке, Елисей Бомелий посвящал все свои силы и все свое время изучению токсикологии, учению о ядах. В приготовлениях их он достиг удивительного совершенства. Эта его специальность как раз отвечала требованиям минуты — той эпохи казней и убийств, которую переживала Россия. Может быть, это обстоятельство и служило для ловкого иноземца стимулом его прилежной работы.