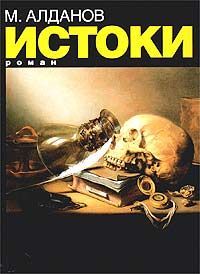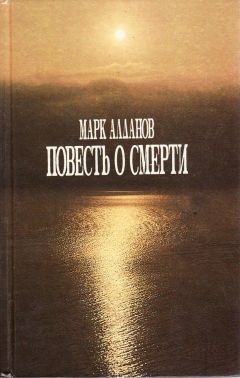Он проснулся часа через полтора, почти задыхаясь от волнения. На полу лежали книга и плед. Сердце у Павла Васильевича сильно стучало. «…882… Да, было 882, но сколько нолей? сколько нолей?» Он совершенно не мог вспомнить, что ему снилось и снилось ли вообще что бы то ни было. Дрожащими руками он поднял книгу, встал с дивана, подошел к письменному столу и сразу безошибочно нашел то, что ему не снилось. Цифры были 882. Перед ними было много нолей, — Павел Васильевич сосчитал их глазами: шесть. Счел снова: оказалось восемь. Горничная вошла в кабинет, испуганно на него взглянула и поспешно унесла лампу. Профессор стал считать снова, щурясь и закрывая ноли один за другим указательным пальцем левой руки. Число было: 0,0000000882. «Все было вздор!..» Он взял карандаш и стал вычислять, проклиная англичан за то, что они в научных работах ведут счет на фунты и футы, когда весь мир, кроме них, пользуется метрами и килограммами. Павел Васильевич сломал один карандаш, сломал другой, начал писать пером… «Разумеется, вздор!» Не снившаяся ему идея никакого практического значения не имела: так нельзя использовать солнечную энергию. «Все равно, здесь ключ ко всему», — подумал он. Ему стало легче, точно слишком страшно было открытие, которого он не сделал.
Опять зашипел звонок и, перекрывая его, прозвучал властный сильный стук в дверь: так всегда оповещала прислугу о своем возвращении Елизавета Павловна, тоже очень давно говорившая, что звонок следует переменить. В ту же секунду раздались радостные голоса, тотчас заполнившие всю квартиру. «Да, конечно, без них было бы скучно», — подумал профессор, уже совершенно спокойный и веселый. В гостиной, где стоял большой расстроенный рояль, стукнула крышка, очевидно, не поднятая, а подброшенная кверху, затем прозвучал какой-то аккорд из «Руслана», и крышка снова захлопнулась. Послышались еще голоса, испуганно-радостный крик и общий смех. Через минуту широкая дверь кабинета с шумом распахнулась, в комнату быстро вошли, держась за руки, обе дочери Павла Васильевича; звучный баритон спросил: «Можно?» и на пороге появился, весело смеясь, Черняков, в модном сюртуке с цветком в петлице. За ним следовал доктор, которого называли Петром Великим и который давно принадлежал к постоянному составу гостей.
— Папа, вы не можете себе представить, что случилось!
— Милости просим, господа. Садитесь, — сказал Павел Васильевич, приветливо здороваясь с гостями. — Что же такое случилось?.. Машенька, милая, дай нам ту коробку.
Маша подала ящик с сигарами и села застенчиво в углу подальше от лампы, точно стыдясь своей наружности. Она в самом деле была нехороша собой. В углу она и просидела до обеда, влюбленно глядя на сестру и с наслаждением вслушиваясь в каждое ее слово.
— Папа, вы равнодушны к свалившемуся на нас несчастью!
— Да, да, Лизанька, я слушаю… Не хотите, Михаил Яковлевич? Правда, до обеда лучше не курить… Что же такое случилось?
— Случилась неслыханная катастрофа! То есть, если хотите, не совсем неслыханная, потому что у нас это уже бывало… Чего, впрочем, у нас не бывало? Но нам всем все-таки надо покончить с собой. Вы знаете, что у нас сегодня обедают они: Черняков и Петр Великий? Кроме того я пригласила Владимира Викторовича.
— Кто это Владимир Викторович?
— Как же вы не помните, папа? Владимир Викторович… Ну, вот, я сама забыла его фамилию! Сейчас вспомню. Владимир Викторович, ну тот, который добровольцем ездил воевать с турками, еще к генералу Черняеву. Он был у нас два года тому назад, неужто вы не помните? Красивый, высокий блондин, бритый. Его недавно демобилизовали. Я его встретила на Невском и позвала к нам обедать. Разве я вам не говорила? Конечно, я сказала, и вы были очень рады.
— Я очень рад, но в чем же все-таки катастрофа?
— В том, что я совершенно забыла заказать обед, а эта дура Лукерья почему-то решила, что мы обедаем в городе, и ничего не приготовила! Она говорит, что у нее не было денег. Я, действительно, забыла оставить ей деньги… Впрочем, у меня и у самой не было: я тоже забыла взять у вас. Но она могла бы взять у швейцара или в булочной, или…
— Или в Английском банке, — вставил доктор.
— Впрочем, она вообще идиотка и если б она не готовила так хорошо, то ее давно следовало бы прогнать.
— Тем более, что ее зовут не Жюли, а Лукерья. Нельзя называться Лукерьей, правда?
— Уверены ли вы, Елизавета Павловна, что ваши народнические убеждения, в твердости которых я, избави Бог, нисколько не сомневаюсь, позволяют употреблять слова «идиотка» и «прогнать» в отношении трудящегося человека? — весело спросил Михаил Яковлевич.
— Ах, оставьте, пожалуйста, Черняков! Я так говорю обо всех.
— Обо всех можно, а о народе нельзя. Вот я пожалуюсь вашим друзьям, народным печальникам. Они вас живо приструнят.
— Ну, это мы еще посмотрим.
— Лиза очень любит Лукерью, — сказала, вспыхивая, Маша.
— Друзья мои, я не вижу никакой трагедии, — сказал профессор.
— Подождем этого Виктора Владимировича, и я вас всех везу к Борелю.
— К Борелю, папа? Это идея… Хотя нет, к Борелю нельзя. Я не одета, и это было бы долго, а мы все голодны, как звери. Кроме того, зачем тратить тридцать или сорок рублей? Дайте их лучше мне, папа. А вот что мы сделаем: я сейчас пошлю Василия к Елисееву, и он нам все привезет. Будет холодное, но это не беда. Папа, дайте же мне денег, у меня нет ни гроша. И отдайте три рубля Чернякову, я у него взяла. Не плачьте, Черняков, вы не уйдете голодным. Машенька, скажи, чтобы накрывали… Впрочем, нет, сиди, я сама распоряжусь.
Она вскочила и выбежала из комнаты. Черняков поглядел ей вслед и чуть вздохнул, — совсем слабо вздохнул, никто не мог бы заметить.
Михаил Яковлевич несколько изменился в последние три года. Он получил кафедру, пополнел, одевался теперь у Шармера, еще лучше, чем прежде. Речь его стала еще более гладкой и закругленной; в минуты волнения, или когда он хотел быть особенно убедительным, у него в голосе слышались уже не баритональные, а басовые ноты. Он так привык к профессорской речи, что ему было трудно и в разговоре произнести фразу, в которой не были бы безукоризненно согласованы главные и придаточные предложения (их бывало и по три в одной фразе; полушутливые слова «сей», «оный» он теперь употреблял не так часто). Черняков был одним из самых популярных лекторов в университете. По своей доброте и веселому характеру, он пользовался общим расположением. Дамы уже не совсем шутливо говорили, что его надо бы женить. В ответ на это он, смеясь, цитировал Чичикова: «Что ж? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того… Была бы невеста». Михаил Яковлевич любил цитаты. На лекциях цитировал Шекспира и Гете в подлинниках, сопровождавшихся переводом, а в разговорах — Гоголя, Островского, Козьму Пруткова, — их одинаково обожал (Гете и Шекспир были так).
О женитьбе он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Некоторые легкомысленные курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного старого профессора хотела из-за него отравиться; правда, она не отравилась, однако, хотела, и слух сам по себе окружил его некоторым ореолом. Сам он с веселым недоуменьем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Иосифа Прекрасного. Черняков по джентльменству никогда об этой истории никому не говорил; да и в роли Иосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яковлевичу нравились многие барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.
Ученая и журнальная карьера занимала в жизни Чернякова такое огромное место, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать жене, зато целиком, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая девушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мне больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невестой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить салон, что было его мечтою. Но Михаил Яковлевич был бескорыстным человеком. Он уже достаточно зарабатывал и рассчитывал скоро стать редактором отдела в одном из лучших журналов: его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тесном смысле слова, принимать раза два в месяц. И дело, конечно, не в том, чтобы непременно был первоклассный ужин, дорогие вина, хотя, конечно, это имеет известное положительное значение, — главное: какие люди бывают. А у нас охотно будут бывать самые выдающиеся люди России… Нет, нет, никакого приданого, лишь бы милая девушка», — думал дома по вечерам Михаил Яковлевич.
Незадолго до своего временного переезда в дом Дюймлеров, он снял новую, довольно большую квартиру, — с лишней комнатой для будущего будуара будущей жены, как детям шьют платье с некоторым запасом на рост. Улица была хорошая, адрес на визитной карточке был такой, какой нужно: не набережная, не Сергиевская, не Миллионная, но и не Гороховая и не Загородный проспект. Понемногу Михаил Яковлевич обзавелся обстановкой. Он покупал ее именно так, как советовали покупать Муравьеву: бегал по рынкам и все покупал по случаю (причем случай редко не бывал необыкновенным). Михаил Яковлевич был одним из первых в Петербурге людей, оценивших русскую старинную мебель. В кабинете у него стояло приобретенное за бесценок бюро с откидной крышкой на ремне, с множеством ящиков, с тайниками, — вещь совершенно отентичная[76], как он говорил приятелям, показывая на ходы, прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россию старинную мебель, специализировалась на червях). На бюро были в порядке расставлены мраморные канделябры, мраморный письменный прибор, с чернильницей, песочницей, разрезным ножом, лодочками для перьев и карандашей. Бумаги были распределены по ящикам, — Михаил Яковлевич только не знал, что положить в тайники; в его жизни почти ничего тайного не было. Освещался кабинет тяжелой александровской люстрой в виде черного бронзового блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стенах висели портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста с надписью: «Herrn Professor Dr. Michael Tscherniakoff in aufrichtiger Schätzung. Rudolf Gneist».[77]