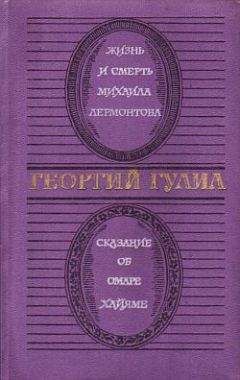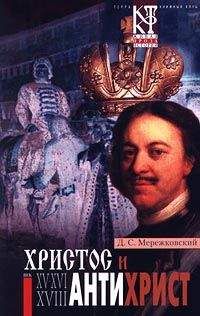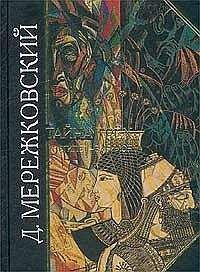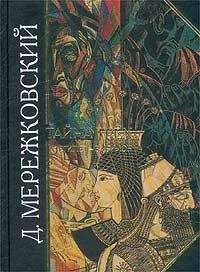Очень верную, очень точную характеристику дала поэзии Лермонтова графиня Ростопчина в известном письме к Дюма. Вообще говоря, любопытно все письмо – от начала до конца. Оно – яркое свидетельство проницательности и острого ума ее автора. Ростопчина, несомненно, любила Лермонтова и была любима им. Любила Лермонтова-человека и Лермонтова-поэта. Ей посвящено чудесное стихотворение, очень глубокое по мысли и, как всегда, откровенное.
«Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы, – пишет Ростопчина, – относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку…»
Я говорил уже, что после «Смерти Поэта» Лермонтов уже «не мог» писать хуже. Все его произведения, написанные после, отмечены высоким мастерством и глубокой мыслью. Но особенный расцвет наступил в 1840 году, и продолжался он вплоть до середины 1841 года. Линия его прекрасного творчества шла все время вверх.
Лермонтов создал всего шестьдесят восемь стихотворений – уже в «зрелом» возрасте. Подавляющее большинство стихотворений рифмованы. Я думаю, что это и есть настоящая поэзия. Верлибр – я в том убежден – изобретен для «поэтов» ленивых, которым некогда или которым невмоготу по тем или иным причинам придумать свежие рифмы. В 1836 году барон Егор Розен предсказывал в «Современнике»: «Человечество идет вперед – и кипят все побрякушки, коими забавлялось в незрелом возрасте. Дальнейшее потомство прочтет рифмованные стихи с тем же неодобрением, с каким читает гекзаметры Леона. Последним убежищем рифмы будет застольная песня, или наверное – дамский альбом!» Сборник Лермонтова, вышедший четыре года спустя, доказал совершенно обратное. Я уже не говорю о дальнейшем блистательном шествии рифмы – прямо в двадцатый век, в поэзию Блока, Маяковского, Есенина.
Однако главное, на что мне еще раз хотелось бы обратить внимание, – это 68: как мало надо для гениального поэта и как гениально должно быть это малое!
Мне кажется, что иным поэтам стоило бы почаще вспоминать слова Иисуса Сираха: «Наложи дверь и замки на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковали надежную узду, которая бы держала твои уста».
Хлопоты бабушки, как видно, увенчались успехом, и Лермонтову разрешили отпуск. Бумага из столицы пришла, вероятно, в самом конце 1840 года или в начале следующего.
Костенецкий встречался с поэтом в Ставрополе, в штабе генерала Граббе, где заведовал «строевым отделением». К нему однажды зашел Лермонтов. Не виделись они со времени учебы в Московском университете. «И он припомнил наше университетское знакомство,» – пишет Костенецкий. Лермонтов интересовался последствиями ходатайства бабушки об отпуске. На запрос военного министра был подготовлен «положительный» ответ. Не кем иным, как самим писарем. Костенецкий пишет: «А вот вам и ответ», сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен… Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил меня нисколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить».
Словом, Михаилу Лермонтову отпуск разрешили.
И он поехал на север.
В последний раз.
Лермонтов возвращался в столицу на вершине своей прижизненной славы. Уже вышли две книги, которых вполне хватило, чтобы вознести его на русский Парнас.
Едет он на север, снова пересчитывая поверстные столбы до боли знакомой дороги. Какие же мысли роились в его голове на этот раз? Мы можем составить общее представление по его стихам. Только стихи его являются самыми ценными и самыми точными свидетельствами того, что творилось в душе поэта.
«Поедешь скоро ты домой: смотри ж… Да что? моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен».
Эти стихи вполне можно отнести к их автору. Разве что следует внести одну поправку: только один человек озабочен его судьбою – Елизавета Алексеевна. Она очень и очень озабочена! Она готовится к поездке на свидание со своим внуком в Петербурге. Однако из-за ранней распутицы отъезд ее из Тархан задерживается…
Едет прославленный поэт. И как это ни удивительно – не оказывают ему чрезвычайных почестей. А почему? Если любого епископа церквушки на Руси встречали колокольным звоном, то почему бы не сделать хотя бы этого для Лермонтова?
Города и веси проходят один за другим перед его печальным взором, а перезвона не слышно.
«Люблю отчизну я, но странною любовью!.. Но я люблю – за что, не знаю сам – ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям…»
Едет поэт по Руси, и в сердце его все горячее закипает любовь к родным просторам, где все как бы создано для счастья человека и где так мало его «в краю родном».
Едет поэт на север, все на север…
«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она…»
Едет великий поэт России, а на сердце – недобрые предчувствия. Горькие думы не дают покоя. Что делать ему дальше? Вымаливать прошенье? Уйти в отставку?
Все тверже решимость уйти из армии, уйти в отставку и всецело заняться литературой. Может быть, даже издавать журнал. Вместе с Краевским, может быть.
«Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья: в меня все ближние мои бросали бешено каменья…» «Из дальней, чуждой стороны он к нам заброшен был судьбою; он ищет славы и войны, – и что ж он мог найти с тобою?..»
И это он тоже о себе. Почти наверняка.
А дорога не кончается. Поверстные столбы похожи один на другой. Что же ждет поэта впереди?
Воистину: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…»
Если мысленно представить себе карту путешествий Лермонтова, то в глаза невольно бросится неукоснительное постоянство маршрута. Судите сами. В детские годы – Тарханы – Кавказ. В юношестве – Тарханы – Москва, через Тамбов и Тулу или через Рязань. В пору молодости – Петербург – Москва – Кавказ. И снова: Петербург – Москва – Кавказ. И снова: Петербург – Москва – Кавказ. В том или другом направлении. Только однажды был сделан небольшой крюк – в имение Михаила Глебова.
Маршруты однообразные, но сколько разных мыслей и замечательных образов, так не похожих друг на друга! Боярин Орша и Хаджи Абрек, Печорин и Казбич, Азамат и Бэла, Грушницкий и опричник царя Ивана, Демон и Арбенин, Нина и Вера… Разве всех перечтешь в один присест, в одной не очень длинной фразе? Как видно, поэзия не зависит от пестроты маршрута. Есть у меня друзья, которые ездят в разные страны, но страны эти и люди их едва ли оставили отпечаток на душе. Может быть, прав был Лермонтов, когда советовал Шан-Гирею не ехать в Америку, но собираться на Кавказ. Впрочем, даже советы Лермонтова могут не прийтись «в жилу» иному, пусть более скромному нынешнему поэту. Поэзия – вещь удивительная и странная. Здесь меньше всего действуют советы «полезные» и, тем более, универсальные.
«…Начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем, а мне дали отпуск…» Так начиналось письмо Лермонтова к Александру Бибикову на Кавказ. Оно было писано в конце февраля 1841 года. А прибыл поэт в столицу 7 и 8 февраля. Официальная мотивировка известна: свидание с бабушкой. Однако бабушка все-таки не смогла прибыть вовремя из-за ранней распутицы: надо же было ехать от Тархан до Петербурга – расстояние немалое!
Но как понимать одну фразу в воспоминаниях Шан-Гирея? Вот она: «Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург». «Вместе с бабушкой…» Это никак не вяжется с утверждением графини Ростопчиной: «…По горькой насмешке судьбы г-жа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы».
Кто же прав?
Сергей Иванов, много лет изучавший жизнь и творчество Лермонтова, определенно сказал мне, что Лермонтов не возвратился «вместе с бабушкой», как пишет Шан-Гирей. Надо заметить, что Шан-Гирей вспоминал об этом много лет спустя, не «по свежим следам». И все-таки бабушка повидала внука в Петербурге: она успела приехать! Поэтому ошибается и Ростопчина. Лет двадцать пять назад было найдено письмо Елизаветы Алексеевны к Карамзиной, в котором она просит Карамзину походатайствовать через Жуковского о прощении внука. Это письмо писано в Петербурге 18 апреля 1841 года. Сергей Иванов показал мне публикацию письма Арсеньевой.