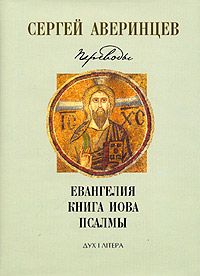— Семь пар чистых, — сказал Кроер, и все посмотрели на него.
— Ямонтом…
— Семь пар нечистых, — сказал Кроер, но уже тише.
— И Мнишком… При этом пан Мнишек поставил подпись только вчера… А господин Раткевич, хотя идея записки была его, снял свою подпись, не соглашаясь с дополнениями, внесенными Браниборским, и согласился снова подписать только сегодня, требуя, однако, возможности высказаться особо.
— …в проруби, — сказал, Кроер.
— Господин Браниборский, — сказал Яроцкий, — идите сюда, читайте.
Браниборский поднялся, чеканя шаг, пошел на подиум. Красная сафьяновая папка с золотыми шнурами зажата под мышкой, голова гордо поднята.
…Достав из папки листы голубой бумаги, Браниборский начал читать, держа лорнет гораздо выше листа.
Все слушали. Это были обычные сообщения о бедственном положении в губернии, о граде, о неслыханной болезни картофеля, когда клубни почти нельзя отличить от грязи, о залоговых платежах, о недоборах… Все знали это, но факты, собранные воедино, звучали более веско и даже устрашающе.
Положение в самом деле было угрожающим.
Покончив со вступительной частью, Браниборский обвел всех взглядом, умолк на мгновение — в зале было тихо — и повысил голос:
— «Для отвращения гибельных последствий несостоятельности владельцев, происходивших от постигших губернию в минувших годах неурожаев, прибегнуть к чрезвычайным средствам, а именно…»
Зал молчал.
— «А именно: изъявить готовность отказаться от крепостного права над людьми и при представлении высшему правительству о нуждах дворянства просить о дозволении составить комитет для начертания на вышеизложенном основании будущих прав и обязанностей владельцев и крестьян».
Молчание было свинцовое, и в этом молчании прозвучал голос:
— Резонно!
И в ответ ему полетело с разных сторон:
— Правильно!
— Хватит уже!
— И они голодают, и нам не мед!
Вдруг взвился над своим креслом Кроер:
— Нет!
Его сумасшедшие серые глаза, расширенные, остекленевшие, казалось, вылезут из орбит.
— Нет и еще раз нет! Кто придумал? Голодранцы придумали! У которых своих душ нет. Зависть их берет! Мнишки придумали, Вирские! Люди с двумя дворовыми. Нищие!
— Я не нищий и не голодранец, — сказал длиннющий, как рождественская свеча, Юлиан Раткевич, желтоватое лицо его было нервно-злобным. — Я не голодранец. А мое отдельное мнение — вот оно. Браниборский предлагает отступить от местного принципа: «Крестьяне не наши, а земля наша» — и от принципа центральных губерний: «Крестьяне наши, а земля — ихняя» — во имя принципа: «Крестьяне не принадлежат нам — земля не принадлежит им». Это, я считаю, нечестно, это лишает крестьян достояния, делает их нищими. А мне, да и всем здесь, не нужны работники-нищие, помощники-нищие. Я сожалею, что позволил Браниборскому дополнять мою записку. Жалею, что теперь остался в меньшинстве с паном Мнишком. Я считаю правильным принцип: «Они не наши, а земля пополам». А то получилось, что я начал это дело потому, что мне лично крепостное право невыгодно. А это не так. Все.
— Ты начинал это дело, потому что ты якобинец, — Кроер кричал с круглыми от гнева глазами, — потому что от тебя несет французятиной. Смотрите, дворяне! Это начало вашего конца!
Зал взорвался шумом. Собутыльники тащили Кроера на место. Раткевич рвался к нему.
— Мужицкие благодетели! — кричал Кроер. — Якобинцы! Княжествами им владеть надоело! Они босяками стать захотели, шорниками!
…Исленьев наклонился к Веже и тихо спросил у него:
— Ну? Ожидали вы этого?
— Давно ожидал, — Вежа смотрел на бурлящую толпу, — но немножко другого.
— Чем вы все это объясните?
— Подлостью, — спокойно сказал Вежа.
— Почему-у?
— Дурак Кроер неправ, — сказал Вежа. — Они не хотят стать ни якобинцами, ни шорниками. Таких среди них — Мнишек да Раткевич. Это святые олухи. Словно кто-то им позволит быть святыми в этом притоне. А остальные? Слышите, как кричат на Кроера? Разве только те, что подписали? Нет, большинство. Большинство против крепостного права. И они не шорниками хотят быть, а богатыми людьми. И вот поэтому я против, чтоб отменили крепостное право в их имениях.
— Н-не понимаю вас, — сказал Исленьев.
— Отвязаться, отделаться захотели от своих мужиков, — сказал Вежа. — Окунуть в голод и нищету… Мне, граф, конечно, не хочется ради внука, чтоб отменили крепостное право… Но если б решили отменить по совести, я первый оформил бы. Грешное, злое дело. Устаревшее.
— Ненужное.
Его уста были полны горечи.
— Когда бабу… целовали, так сережки обещали, а как баба рожать, так они убегать… Было — они наши, потому что земля наша. А тут, выходит, все наше: и деньги под залог, и земля — только они не наши. Зачем они нам с голым пузом? Пусть пo миру идут. Пусть сами за себя платят недоимки, которые до сих пор за них платили мы. А недоимок у этих вон хозяев набралось чуть не со времен царя Гороха… Люди голодные, как им платить? Правительство шло на некоторую отсрочку, чтоб последней шкуры с мужика не содрать. А вы спросите у хозяев: забыли ли они хоть один год мужика постричь? Вот… Вот то-то оно и есть.
— Что б вы предложили?
— Услышите, — сказал Вежа. — Они у меня должны спросить. И я отвечу.
Шум все нарастал.
— Выродки! — кричал Кроер. — Социалисты!
— Кроер, я оборву вам уши, — сказал Раткевич. — Я думаю, вы еще не заложили в трактире вашу шпагу?
Кроер взревел. Вдруг перед ним выросла Надежда Клейна.
— Ну! — сказала она. — Ну! Что ты собираешься делать, аспид, дай глянуть.
— Женщина, отойди!
И тут Клейна ловко, как кошка, ухватила его пухлой ручкой за ухо.
— Не дергайся, батюшка. Я тебе теперь не женщина. Я в собрании. Такая, как и все. Садись, батюшка… Сиди тихонько и слушай, что умные люди говорят.
Зал захохотал. И хохот сделал то, чего не сделали б оголенные шпаги. Кроер сел.
И сразу ударил в гонг Басак-Яроцкий.
— Я полагаю, лучше всего решить этот вопрос, ввиду разбушевавшихся страстей и резкого размежевания собравшихся, путем баллотирования. Но раньше, думается мне, надо спросить нескольких известных своим состоянием и возрастом дворян.
— Да, да, — загудели голоса.
— Тогда я начинаю, — сказал Яроцкий. — Господин граф Ходанский.
Ходанский поднялся. Снисходительная, заученная улыбочка неподвижно лежала у него на губах.
— Не понимаю причины спора, — сказал он по-французски. — Среди Иванов пока что не замечено ни Лавуазье, ни Мармонтелей. Пан Раткевич, конечно, выступает за народ, а не за свой карман. Он сам говорил, что делает это не из-за выгоды.
— Дурак, — тихо сказал Вежа. — Всегда думал, что Ходанский дурак. И злобный. Человека хочет опозорить.
— Так вот, — говорил дальше Ходанский, — я заступился б за господина Раткевича, но зачем мне заступаться за мужика, который не чувствует никакой необходимости в изменении своего положения? Он еще не дорос до свободы. Ему еще триста лет будет нужен сатрап с плетью. Если оставим его мы, культурные, он найдет себе другой хомут, еще жестче. — Он наклонил голову. — Я призываю всех дворян, кто хочет пахать землю, хочет, чтоб в креслах этого собрания сидели Зoхары и Евхимы, а на месте предводителя дворянства — кровавый палач… я призываю всех этих дворян класть белый шар за мужицкую свободу.
И сел. Часть зала одобрительно загудела.
— Ясно, — сказал Яроцкий. — Пани Клейна.
— Не знаю, батюшка, — вздохнула старуха. — По-старому мне удобнее. Но как подумаю, что на собраниях вместо дебошира Кроера будет сидеть мой дед Зоoхар, как сейчас пообещал Ходанский, так мне сразу веселее делается.
Махнула рукой:
— Белый шар.
Все молчали. Потом Яроцкий вздохнул:
— Господин Раубич.
Раубич смотрел на Загорского. И Загорский, оберегая его, отрицательно покачал головой.
— Я отвечу баллотированием, — глухо сказал Раубич.
Загорский кивнул.
— Дело ваше, — сказал Яроцкий. — Господин предводитель.
— Свободу, — бросил пан Юрий — Я с Раткевичем.
— Господин Ваневич?
— Свободу.
— И, наконец, самый влиятельный из дворян губернии — князь Загорский-Вежа.
Загорский встал.
— Свободу, — сказал он. — Свободу в тех имениях, на которых нет недоимок и где уплачены проценты по закладным.
Слова упали в настороженную тишину зала, как картечь. Те, в которых попало, зашумели. Приблизительно третья часть зала, в той стороне, где сидел Браниборский.
— Почему вы кричите, панове? — сузив глаза, спросил Вежа. — Разве я изрек что-то неожиданное, что-то такое, о чем вы не думали?
— Чепуха! — крикнул Иван Таркайло. — Я даю мужикам взаймы, я отвечаю за недоимки, за неуплату мужиками налогов. Они не стоят того сами, вот что.