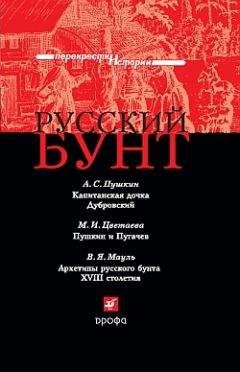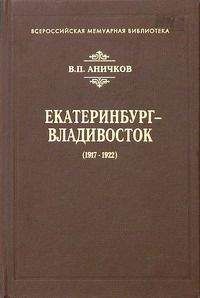Давно уже не является тайной и то, что в истории Пушкин больше всего любил бунтовщиков, а С. Т. Разина называл единственной поэтической фигурой русской истории. Вполне объяснимо пристальное внимание поэта-мыслителя и к истории пугачевского бунта. «Пушкин Пугачевым зачарован», – резонно утверждала Марина Цветаева. Нет ничего удивительного, что тема «Пушкин и Пугачев» давно привлекает ученых, и не случайно пугачевская пушкиниана насчитывает не одну сотню научных работ.
Новые попытки изучения пугачевского бунта не исключают реанимации пушкинских исследовательских подходов, вполне созвучных запросам современной гуманитаристики. Это, главным образом, стремление «очеловечить» бунт, показать его как арену деятельности конкретных, живых людей с их богатыми эмоциональными переживаниями: страхами, надеждами и разочарованиями, симпатиями и антипатиями и т. д. Особенность почерка Пушкина-ученого – акцент на мельчайших, порой даже бытовых деталях. Историческое пространство бунта показывается им именно через деталь и через человека. Для сочинений Пушкина о пугачевском бунте характерна содержательная многосложность, наслоение различных смысловых оппозиций: дворянин – дворянин; господин – слуга; каратели – бунтовщики; бунтовщик – бунтовщик; мужчина – женщина; добро – зло; жестокость – милосердие; жизнь – смерть и мн. др. Показательно, что Пушкин описывает пугачевщину, выводя на первый план многочисленные символические противоположности – социальные, моральные, культурные, личностные и др. Заметим, что, вопреки историографическому клише, у Пушкина бунт далеко не всегда выглядит таким уж бессмысленным. Знакомство с его произведениями убеждает, что Пушкин сумел продемонстрировать в бунте простонародья, как и в действиях Пугачева, глубокий социокультурный смысл. И не столь уж важно, насколько сам Пушкин осознавал данное обстоятельство. Важнее другое: множество деталей, им выделенных, несомненно, подчеркивают культурную составляющую русского бунта.
М. И. Цветаева. Фотография.
Необходимо принять познавательный вызов поэта и писателя и проанализировать русский бунт под соответствующим углом зрения. Отсюда возникает необходимость взглянуть на бунт не «сверху», как стало уже привычным, но с другой стороны. Не просто и не только «снизу», сколько «изнутри», глазами его участников и современников, чтобы понять тот смысл русского бунта, который не заметен изначально и раскрывается постепенно в ходе исследовательских интерпретаций.
Как известно, обычная, изо дня в день, жизнь человека является для него привычной повседневностью, которая на протяжении многих веков воспроизводила устоявшийся в поколениях уклад жизни. Новые формы культурного бытия могли интегрироваться в традиционную «картину мира» только тогда, когда осмысливались в старых категориях и понятиях. В этих условиях человеку могло быть нелегко, но он ощущал себя достаточно комфортно и спокойно, находился в душевном согласии с самим собой и с окружающим его миром. В пределах своей социальной сферы он имел достаточно возможностей для выражения себя в труде и в эмоциональной жизни.
Но иногда, под влиянием каких-то внешних факторов, происходил разрыв или прерывание повседневности. Возникали экстремальные обстоятельства, которые не могли не травмировать сознание человека. Подобную ситуацию, например, спровоцировала начавшаяся еще в XVII веке и растянувшаяся на многие десятилетия модернизация России. Столкновение традиций и инноваций вызывало глубокие колебания психики масс и имело необычайно серьезные последствия в виде кризиса традиционной идентичности[27], разные уровни которой (общественный, групповой и личностный) интенсивно наслаивались один на другой.
Кроме того, необходимо отметить двойственную природу русского бунта. С одной стороны, бунт не есть нечто типичное и обыденное в жизни страны. Это событие экстраординарное, чрезвычайное, из ряда вон выходящее. В то же время для российской истории он не был и совершенно исключительным явлением. Его специфические признаки «вызревали» в течение долгого времени. Несомненно одно: бунт всегда тяжело воспринимался и переживался простонародьем, давно понявшим, что «бунт не улучшает, а резко ухудшает существующую социальную ситуацию, не залечивает, а обнажает и заставляет кровоточить все болезненные язвы общества», а потому в народной исторической памяти «доминирует хотя и сочувственное, но все же осторожно-сдержанное отношение людей к мятежу: оплакивание разгрома восстания и казни его предводителя еще не адекватны готовности лично участвовать в подобном движении» [114; 22, 29]. По этой причине героизировать поведение народных масс на фоне русского бунта, представлять их сознательными творцами светлого будущего нет никакой необходимости. Они не нуждаются ни в модернизации, ни в приукрашивании: «…среди них были не только мужественные и бесстрашные, но и робкие и нерешительные, сомневающиеся и придерживающиеся нехитрого житейского правила “как все, так и я”. Ведь немало из них до того, как вспыхнул всенародный мятеж, покорно тянули свою лямку и, если бы не экстремальные обстоятельства, продолжали бы это делать» [113; 142].
Как справедливо подчеркивалось в отечественной литературе, атмосфера «повышенной против обычной социальной возбудимости и возбужденности стимулирует всякое массовое движение», а сами будущие мятежники «не ведают, когда им надоест терпеть “великия обиды и разорения”, в кого поверят, за кем пойдут» [144; 89].
Чувство тревоги и страха дополнялось эмоциональным негодованием и взрывом враждебности из-за ущемления привычного (традиционного) образа жизни. Поэтому, как правило, во время насильственных конфликтов бунтовщики обращались к старине, обычаю, что воспринималось ими как вполне достаточный и весомый аргумент в свою пользу. В протестном поведении реанимировались архаичные культурные архетипы[28]. При этом всплески эмоциональности простецов иногда сменялись приступами вполне прагматичных, в духе традиции, раздумий и действий, основанных на житейской сметке, практическом опыте и просто здравом смысле. Следует учитывать и то, что в этом случае бунт оказывался не столько продуктом экономической конъюнктуры, сколько явлением культуры.
Исследуя различные модели протестного поведения, необходимо помнить, что в любом обществе, помимо государственного, есть еще так называемое «фольклорное право». В его основе лежат неписаные этические нормы. Дело в том, что любая культура располагает средствами насилия по отношению к тем, кто ее должен разделять. В этой системе принуждений бунт – последняя ступень обычных санкций, предусмотренных народной традицией, одно из нормативных средств для защиты традиционного уклада жизни.
В психологическом отношении бунты выполняли и своеобразную психотерапевтическую функцию, служили своего рода катарсисом[29]. Очищение происходило постольку, поскольку в ходе открытых народных выступлений находили выход примитивные инстинкты, насилие, сексуальность, которые в повседневной жизни подавлялись существовавшими этическими и нравственными нормами. Поэтому возникает необходимость реконструкции русского бунта не таким, «каким он, собственно, был», но таким, каким он разворачивался в умах людей, его переживавших. Хорошую возможность для этого предоставляет пугачевщина, которая в максимальной степени воплотила в себе сущностные черты и особенности отечественного бунтарства. Составлявшие или наблюдавшие протестующую толпу люди по-разному реагировали на события. Их реакции создают своеобразную историко-психологическую совокупность, на фоне которой раскрывались наиболее яркие проекции русского бунта как феномена социокультурной истории Руси/России. Бунт порождал ситуацию, которая акцентировала весь «букет» эмоциональных ощущений человека. К тому же в ходе бунта происходило постепенное замещение одних эмоций другими, т. е. одни эмоциональные ощущения вытеснялись другими. Это и обеспечивало развитие бунта от одного этапа к другому.
Речь идет, например, о панике, опасениях и страхах, охвативших простонародье. Привычные ценности на глазах рушились, превращались в свою противоположность, сдавали позиции в противоборстве с культурными инновациями, что не могло не вызывать глубокого беспокойства среди общественных низов. Но в то же время – это и испытываемое ими в условиях бунта удовольствие. Еще К. Н. Леонтьев справедливо заметил, что русский мужик «веселился бунтом». Можно даже предположить, что пережитые ранее страхи компенсировались теперь чувством наслаждения вседозволенностью, безграничностью возможностей, сменой социальных ролей и т. п. Данный эмоциональный контекст создавал смеховой антураж вокруг многих сцен «бунтовщического представления», в частности казней, которые, по признанию самих пугачевцев, нередко совершались «ради потехи». Своеобразной вершиной эмоционального удовольствия можно считать пугачевскую версию «игры в царя», с помощью которой достигалась самоидентификация Е. И. Пугачева и его сподвижников.