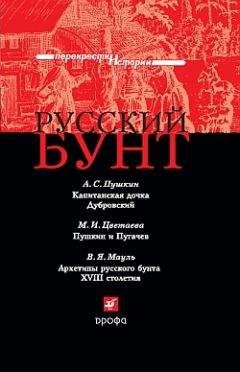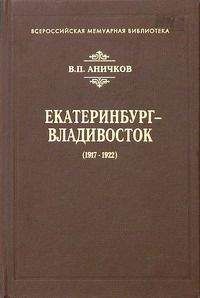Не стоит также забывать о чувстве разочарования, поводом для которого становились поражения и неудачи повстанческого войска. Все чаще возникали сомнения в своем вожде: он – не царь. Формировались психологические реакции в виде досады и гнева, что усугубляло разочарование и представления об измене. Отсюда и активизация инстинкта самосохранения и других поведенческих стереотипов общественных низов, столь ярко проявивших себя в условиях разгрома протестного движения.
Следовательно, необходимо изучать русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи (культуры), его породившей. В результате становится возможным реконструировать не только различные модификации бунтовщического поведения, но и тот объективный смысл русского бунта, который складывался из многочисленных субъективных смыслов его современников и участников.
Русский бунт и Емельян Пугачев в историко-культурном интерьере переходной эпохи
Обращаясь к анализу протестного движения, можно увидеть, как на социокультурном пространстве русской истории с помощью бунта народ пытался построить идеальную модель «православного царства». Катализатором же, способствовавшим бурному росту утопических чаяний и активных попыток их воплощения в XVII – XVIII веках, оказался кризис идентичности, переживавшийся традиционной культурой в условиях ее противостояния процессу модернизации. Из тупика системного кризиса традиционная культура искала спасение в самой себе. Модернизация же подражала образцам извне (т. е. чужим и чуждым), принудительно внедряя их в не подготовленную для этого почву.
Поиск культурой традиционной идентичности приводил к использованию различных защитных механизмов, важнейший из которых – бунт. «Вспомнив» о нормативной функции, традиционная культура защищала свои ценности также с помощью насилия. Российская модернизация уверенно формировала имперскую альтернативу развития страны, которая раскрывала себя на разных этапах истории как рационализм, материализм, плюралистический либерализм. Ее ценностный вектор неизменно был направлен в сторону Запада. Инновации дестабилизировали традиционную гармонию, разрушали привычный, а потому и уютный мир русского простеца. Традиционная культура искала адекватный противовес идеологии модернизма. Дальнейшее развитие могло осуществляться как реализация одной из вероятных альтернатив.
Народная альтернатива реализовывала себя в бунтах, которые, отстаивая ценности традиционализма, корректировали модернизацию. Всеобщее негодование, вызванное политическими, социальными, экономическими и другими симптомами модернизацион-ного сдвига, готовило почву для появления на небосклоне российской истории и лидеров, и возглавляемых ими движений протеста. Через бунт традиционная культура пыталась транслировать свои ценности в будущее, а сам он выступал в роли своеобразного моста между прошлым и будущим, пытался восстановить рвущуюся связь времен. Поэтому бунт оказывался не просто социальным протестом или, например, классовой борьбой, но органичной частью культуры, ее функциональным элементом в ситуации, когда атрибуты наступающей модернизации пробивали себе дорогу к жизни, боролись за право на существование с привычно-традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и даже страх в глубинных слоях их подсознания.
В российском обществе XVII – XVIII веков сложилась эмоциональная атмосфера, в которой бунты становились своего рода лекарством от коллективного страха. Психологической же основой страха была утрата чувства безопасности, которая скорее переживалась, чем осознавалась.
Поскольку мышление людей, принадлежавших традиционной культуре, было мифологизировано и проникнуто пристрастием к «идеальному» прошлому, виновниками всех бед считались нарушители со-циальной «гармонии» и обычаев – бояре (дворяне), чиновники и вообще все те, кто стоит по другую сторону баррикад. Они в возбужденном сознании бунтовщиков выступали в качестве изменников, заслуживавших самого сурового наказания. Понятие «измены», чрезвычайно характерное для традиционной психологии, позволяло осмысливать борьбу против нарушителей порядка, установленного, по мнению простонародья, Богом и Царем, не только как законную, но и требующую поощрения со стороны государя. «Изменники» же, преступившие божественные установления, лишались права на земное и небесное покровительство. Не случайно в большинстве случаев подобного рода народные бунты сопровождались слухами о царских постановлениях, разрешавших насилие. Открытый протест, с точки зрения его участников, приобретал легитимный[30] характер и мыслился как борьба за социальную правду.
Следует помнить, что месторазвитием русского бунта было обрядовое, ритуальное пространство традиционной культуры, но подвергшееся мощному натиску инновационных сил. Это обстоятельство не могло не отразиться на «картине мира» бунтовщиков. Привычно ощущаемые и признаваемые ценности неизбежно искажались, хотя сами участники народного протеста могли этого не осознавать. Чем дальше заходил процесс «порабощения» России достижениями европейской цивилизации, тем большим деформациям подвергались традиционные ментальные[31] стереотипы. Объективно тяготея к традициям, коллективное воображение не успевало приспосабливаться к переменам, безнадежно отставало от менявшейся объективной реальности, а потому старалось цепко держаться за прошлое – «мертвый хватает живого».
Традиция и модернизация столкнулись в смертельном поединке, но отчаянные попытки «спасти» идеально-воображаемый образ прошлого не удавались. Соединительные скрепы (нити) истории постоянно рвались. Ткань времен не удавалось залатать. Страна втянулась в пучину непримиримого социокультурного конфликта, растянувшегося на длительный срок. В России данный процесс преимущественно приходился на XVII – XVIII века, которые намечают основные хронологические контуры русского бунта.
Заметим, что такая хронология обосновывается рядом обстоятельств. Русский бунт тесно связан с переходным состоянием общества, когда новое в культурной жизни с трудом и постепенно приспосабливалось к старым привычкам, навыкам, ощущениям. Для нашей страны переходный период впервые обозначен XI – XII веками. Однако с тех пор пространственные параметры отечественной истории и культуры существенно расширились. Поэтому протестные «жесты» «гилей» и «мятежей» Древней Руси ближе к поведению бунтовщиков, например, во Франции или Англии на исходе Старого порядка. Их пространственное измерение было похожим своей ограниченностью. Поведенческие аналогии можно обнаружить и сопоставляя древнерусские «замятни» с действиями русских низов во время, например, Соляного или Медного бунта, которые также не вышли за узкие пространственные рамки.
Иное дело народные выступления, подобные разинскому или пугачевскому, – здесь совсем другие масштабы, незнакомые европейцам и потому приводившие их в изумление. Так, один из просвещенных иностранных современников разинщины И. Ю. Марций писал: «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок» [62; 71]. Подобные отклики неоднократно заслуживала и пугачевщина. Следовательно, русские бунты, не имевшие аналогов и вызывавшие удивление и испуг у представителей западной культуры, в своей, так сказать, «классической» форме громыхали на бескрайних пространствах страны именно в XVII – XVIII столетиях.
Как известно, при анализе и сравнении исторических альтернатив оценочные критерии типа «лучше» – «хуже», «более развитый» – «менее развитый» и т. п. с очевидностью неуместны. Однако именно их чаще всего и можно встретить в научных исследованиях. При всей условности сослагательной реконструкции прошлого вероятность народной альтернативы, заявленной с помощью бунта, сегодня начинает осознаваться как вполне реальная. Многие историки все чаще признают возможность (хотя и гипотетическую) победы русских бунтарей. Другое дело, что они считают ее перспективы менее плодотворными и, главное, – регрессивными. Процитируем категоричное суждение В. М. Соловьева. «Уже ставился, – пишет он, – правомерный вопрос: чем “непросвещенный абсолютизм” самозванца Пугачева лучше [здесь и далее выделено мною. – B. М.] просвещенного абсолютизма Екатерины II? Ответ однозначен: ничем. Наоборот, он гораздо страшнее, и атавистическая дикость и свирепость его вызывают оторопь и содрогание... Брутальность и способы расправы пугачевцев с “господами” были намного круче, чем набор мер устрашения и наказания, к которым прибегала репрессивная машина властей» [112; 192].