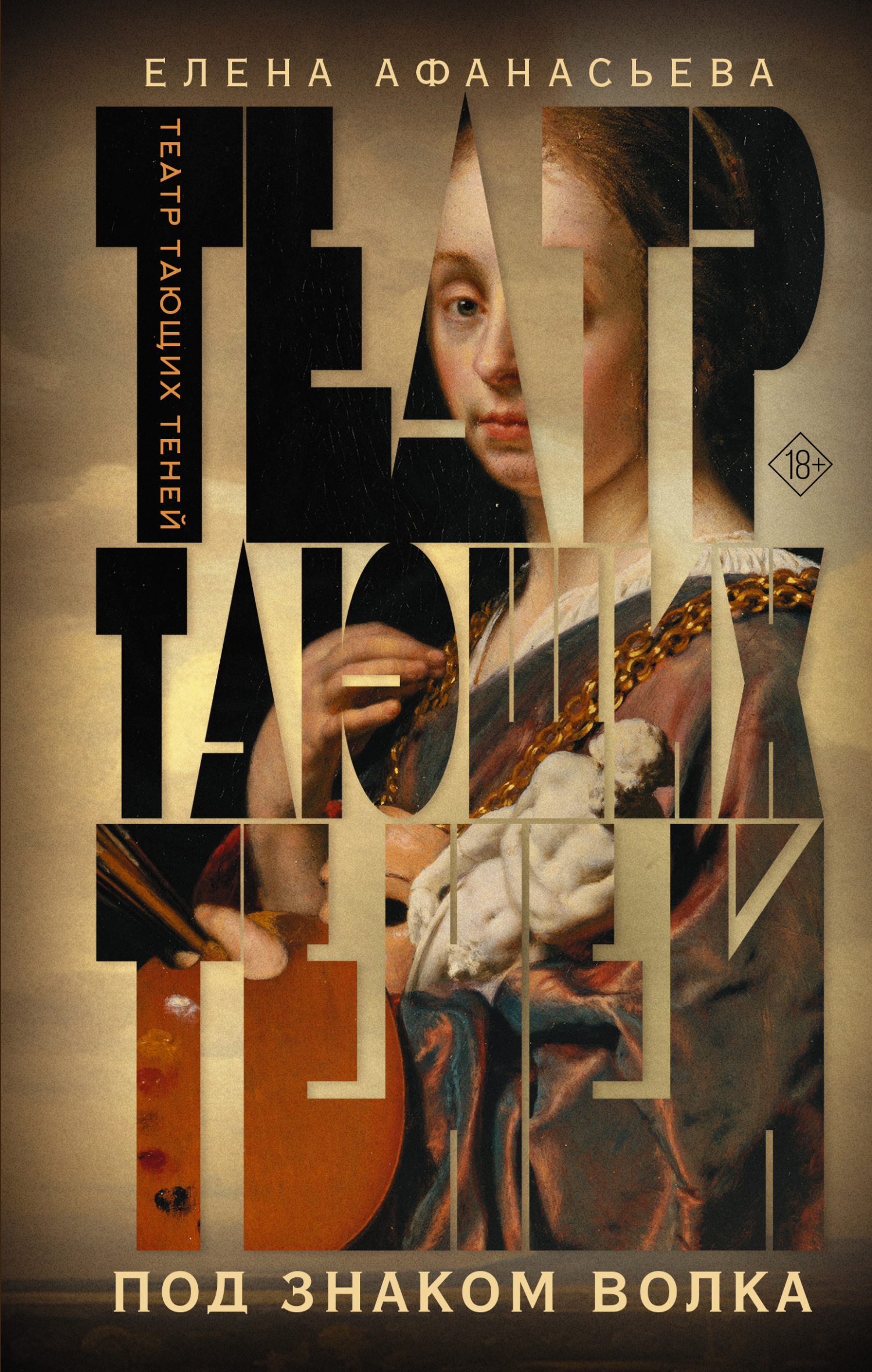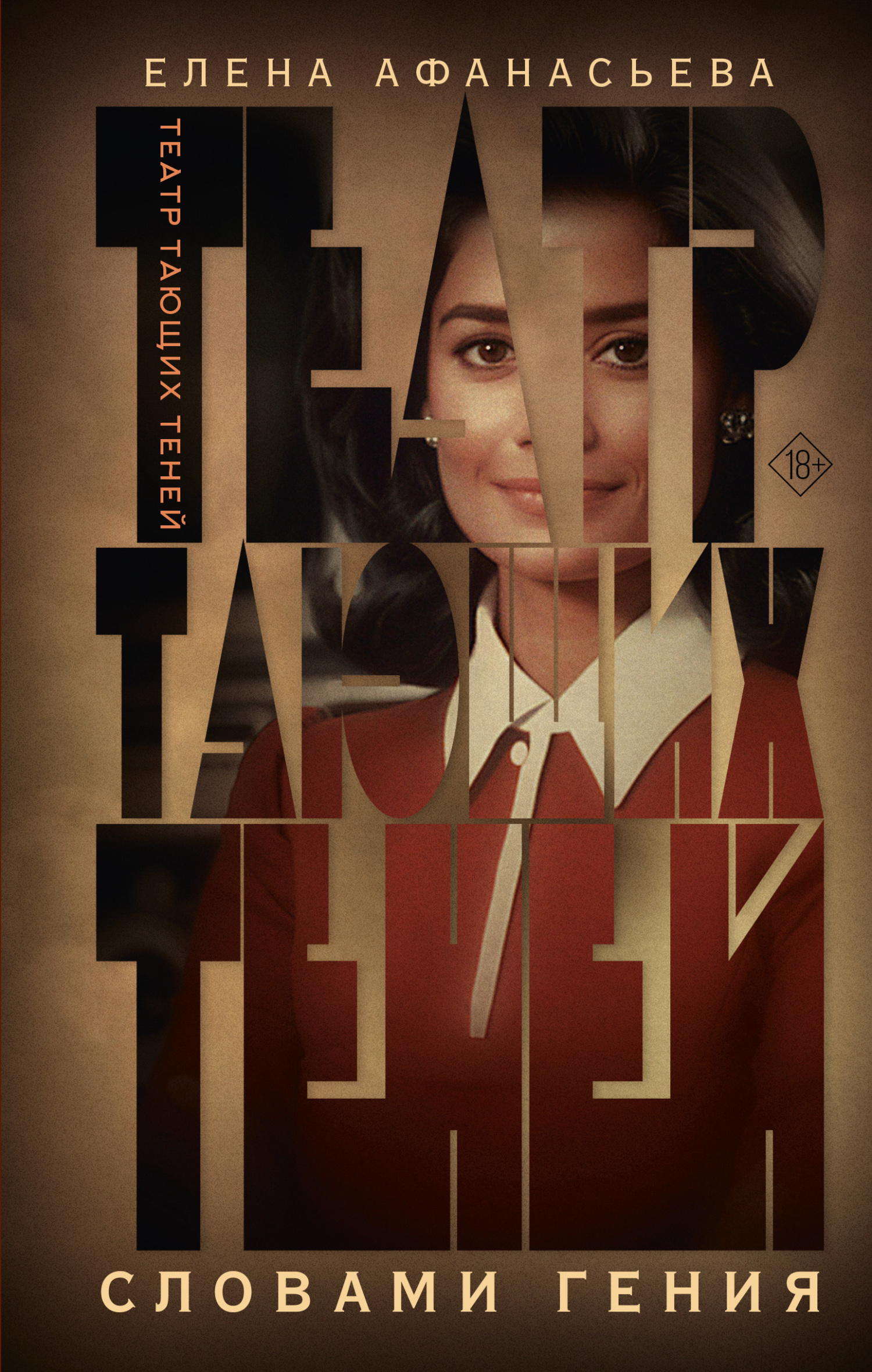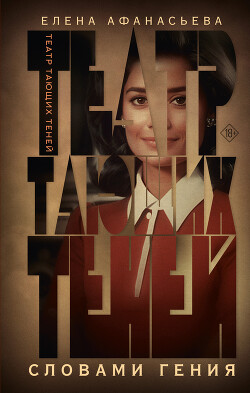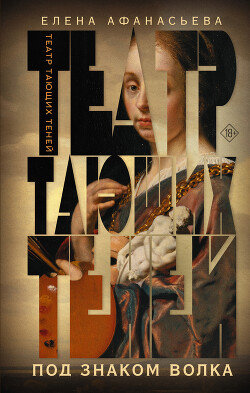на набережную: «писать патреты». Вернее, не сам выходит, а его Маруська выталкивает. Краски, кисти, карандаши, бумагу на отложенные за шитье на заказ деньги ему покупает и фактически за руку на набережную выводит.
— Туточки и стой! Пока за тобой не приду. Мое место рядом.
Поправляет ему купленный на толкучке берет — Савва, вспомнив по рисункам и фотографиям, что все художники в Париже в беретах, сказал ей, что без берета никак нельзя — и звонким голосом затягивает:
— Патреты! Патреты! Лучшее фотокарточки. Двести рублей за толечки лицо, триста по пояс!
И толкает Савву в бок.
— Дальше сам кричи.
Кричать Савва не умеет. Стоит перед чистым листом, с ноги на ногу переминается.
Маруся время от времени подходит со своего пятачка, где с товарками стоит, когда ее сутенер по адресам не гоняет. Смотрит на его пустой лист. Вздыхает:
— Так дело не пойдеть! Товар лицом показывать надобно!
Решительно садится на принесенную из полуподвала табуретку.
— Меня пиши!
Савва не понимает.
— Чо лыбышся? Патрет рисуй! С меня! Людя увидят, что похоже малюешь, себе патреты захочут. С чистым листом много не наторгуешь!
И строго добавляет:
— Толечки без солнц с губами! Похоже малюй! Как на фотокарточке. Даром, чо ль, я с точки ушла, сколько фраеров мимо ходют и всё не наши! Ну, ты давай, еще поправь меня, что не «ходют», а «ходят»! Сама грамотная. Пошти.
Савве ничего не остается, как взять карандаш и начать «малевать похоже, как на фотокарточке», старательно отгоняя от себя мысли об усталости классического реализма и преимуществе уже даже не столько импрессионизма, сколько авангарда с его широчайшим спектром возможности для выражения нынешнего, стремительно меняющегося времени.
Рисует, задумавшись. Мысли про свое: кубизм, символизм, плато гиперинфляции — что дальше? Но — Маруська права — всё чаще рядом с ними останавливаются люди, задают вопросы, спрашивают цены, записываются в очередь на портреты. И только один прохожий в сером котелке и с тростью с осуждением смотрит на унылый реализм «патретов с набережной».
Через три четверти часа Маруська возвращается на свою точку, оставшись на холсте художника в виде весьма реалистичного наброска, а дело у Саввы дальше идет без нее.
К концу дня он приходит к двум взаимоисключающим выводам. Первый: что заработанного за день достаточно, чтобы не считать себя больше нахлебником у приютивших его проституток и постепенно скопить достаточно средств на отъезд. Останется только решить, куда ехать. Второй: что всё это правдоподобное рисование у него поперек горла стоит. Долго писания таких «патретов» он не выдержит, у Маруськи промысел и то честнее.
На набережной Савва рисует несколько раз в неделю. Понедельник-вторник — не ходовые дни, со среды начинается оживление. Успел вычислить, когда у офицеров жалованье, часто просят небольшой портрет для письма домой написать. С вечера пятницы и в субботу состоятельные люди выгуливают своих мадамок, кто жен, кто не жен, без разницы, портреты заказывают. В воскресенье днем семейные прогулки — жены, дети, гувернантки. Детей рисовать намучаешься. На месте не сидят, сплошной вихрь. Он такой вихрь в два счета своим способом бы изобразил, но клиент денег не заплатит, и Маруська будет ругаться, что не как на фотокарточке!
— Под клиентом не об себе думать надобно, а об том, кто платит, все для егойного ублажения! — выдает очередную философскую сентенцию Маруська.
И Савва снова удивляется природному уму девицы — три класса церковно-приходской школы, а любым предприятием лучше любого управляющего руководить сможет, только поставь.
Рисует, отдает портрет — глаза б его не видели, — ставит подпись SavIn, получает деньги, рисует следующий. Процесс производства отлажен. Как и у девиц «на точке» — клиент подошел, поговорили, клиент с одной из девушек на извозчике отъехал, через полчаса или больше девушка пешком вернулась и снова на точку встала. Или клиент отошел несолоно хлебавши, по цене не сошлись.
— Пизда не нанятая всем за так давать! — говорит в таких случаях Валентина.
Рисует Савва одно, думает о другом, краем глаза поглядывает на третье. Всё чаще бросает взгляд в Маруськину сторону. Хотя какая она на точке Маруська — самая что ни на есть пошлая Мэри. Наряды свои перешила, не так вульгарно стало, но яркая помада, натертые свеклой для румянца щеки, причесон, ни следа от настоящей живой Маруськи, которую он теперь днем в перерывах шитья учит по программе гимназии и которая схватывает всё на лету.
Смотрит Савва и каждый раз хочет, чтобы клиент ушел «несолоно хлебавши». Почему хочет, и сам не знает. Чувства свои, как водится, придает анализу — ревность ли это? Но ревность бывает при любви, любовь подразумевает воплощение идеала, а какой из Маруськи идеал? Тощая — кожа да кости, вместо грудей, как сама называет, «пупырки», пальцы загрубели от крестьянской работы и теперь еще исколоты иголками. Вкуса никакого, речь чудовищна, образования — всё те же три класса церковно-приходской и то, чему теперь ее учит он.
Не может он, Савва, в такое чудное создание быть влюблен, значит, и ревновать не может. Но почему-то неприятно саднит каждый раз, когда она с новым клиентом уезжает. Научный ум Саввы найти объяснения этому факту не может.
Силится, но не может. А если у задачи нет решения, вывод один — условия сформулировано некорректно и где-то в этом условии закралась ошибка.
После взрыва Агата Делфт. 12 октября 1654 года
Первая четверть часа ПОСЛЕ…
Бегут.
Забыв про дыхание, которое сбилось в первую же секунду.
Забыв про выбившиеся из-под чепца волосы, задранный подол юбки, оголивший ее голени, забыв про все приличия, Агата следом за Йоханесом бежит через мост. Навстречу взрывам.
— Опасно! — кричит Йон. — Я один лучше!
— Там Анетта!
Она оставила дочку!
Она оставила дочку там, где теперь пожар и развалины.
Она сама оставила дочку!
— Могут быть еще взрывы!
— Там Анетта!
Про мужа не сразу вспоминает, что муж тоже там. И другие художники. И дочка Ван дер Пула.
Анетта! Там Анетта!
Не может поцелуй с Йонасом второй раз стоить ей ребенка!
Господи! Прости и помилуй меня, грешную! Накажи меня за помыслы мои греховные! Накажи меня, не дочку! Господи!
Бегут.
Чем ближе к месту, откуда она четверть часа назад ушла, тем жарче. И страшнее. Огонь полыхает!
Заслонив всё небо, полыхает огонь. Если бы она не была так напугана, она бы заметила небо цвета охры, и черные всполохи, и оранжево-серые языки пламени.
Но она бежит. Молится на бегу и бежит. И ничего не видит. Или ей