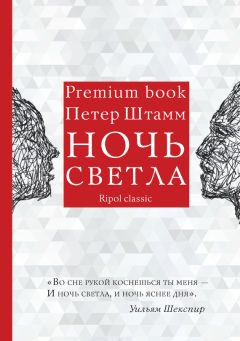Он заперся в своей комнате: ему не терпелось снова раскрыть книгу на отмеченной им странице; дочитав до конца, он перечел снова. Это было то место в Книге Царств, где рассказывается о насилии, которое Амнон учинил над своей сестрой Фамарью. То, о чем он раньше не осмеливался думать, теперь предстало перед ним со всей ясностью. И он ужаснулся. Запрятал Библию глубоко в шкаф. Донна Анна, старательно наводившая порядок в материнской библиотеке, не раз просила его вернуть книгу. Но он неизменно забывал это сделать. И в конце концов она перестала ему напоминать.
Иногда она заходила к нему в комнату в его отсутствие. Боясь, как бы она не открыла Библию на этой странице, он перед уходом запирал шкаф.
Он стал читать Анне сочинения мистиков: Луиса Леонского, брата Хуана де ла Крус, святую Терезу. Но эти вздохи, перемежаемые рыданиями, быстро утомляли их. Страстные и туманные речи о любви к Богу волновали Анну сильнее, чем поэмы о земной любви, хотя, по сути, в них говорилось о том же самом. Эти экстатические излияния святых, иные из которых были еще живы, но навеки скрыты стенами испанских монастырей, действовали на нее как дурманящий напиток. Ее чуть запрокинутая голова и полуоткрытые губы напоминали дону Мигелю восторженно-расслабленную позу святых монахинь, которых художники изображают в почти сладострастном слиянии с Богом. Анна чувствовала на себе взгляд брата; смутившись сама не зная от чего, она чинно усаживалась в своем кресле. Когда входила служанка, оба они краснели, словно захваченные врасплох.
Он становился строгим. Все время выговаривал ей за праздность, за неподобающие манеры, за слишком смелый покрой одежды. Она принимала эти упреки как должное. Он терпеть не мог платьев с глубоким вырезом, в которых щеголяли патрицианки, и Анна, чтобы ему угодить, стала носить тесный нагрудник. Он резко осуждал ее за горячность и несдержанность в речах, и она стала подражать его суровому немногословию. Тогда он в страхе подумал, что она о чем-то догадывается, и стал украдкой следить за ней; она чувствовала это, и самые ничтожные происшествия становились поводом для ссоры. Он перестал говорить ей «сестра»; она заметила это и стала плакать по ночам, пытаясь понять, чем могла так оскорбить его.
Часто они посещали вдвоем церковь доминиканцев. Для этого надо было проехать через весь город; Мигелю тяжело было садиться в дорожную карету, с которой были связаны мрачные воспоминания, и он настоял, чтобы Анна брала с собой свою служанку Аньезину. У Анны возникло подозрение, что он влюбился в эту девушку. Она не желала участвовать в подобном деле. Анне всегда претила наглость этой особы, и вскоре под каким-то предлогом она ее рассчитала.
Была первая неделя декабря, дон Мигель успел уложить сундуки и даже нанял возницу. Он считал дни, оставшиеся до отъезда, и ему следовало радоваться (так он говорил себе), что они бегут так быстро, однако он испытывал скорее уныние, чем облегчение. Он сидел в своей комнате и представлял себе лицо Анны, силясь закрепить в памяти мельчайшие черточки этого лица, — чтобы легче было вспомнить потом, когда он будет далеко. Но чем больше он старался, тем хуже ему это удавалось, и невозможность в точности представить себе складку у губ, изгиб века, родинку на бледной руке заранее приводила его в отчаяние. И тогда, внезапно решившись, он входил в комнату Анны и молча впивался в нее жадным взглядом. Однажды она сказала ему:
— Брат мой, если эта поездка вам не по душе, отец не станет заставлять вас.
Он не ответил. Она подумала, что ошиблась, что он хочет уехать, и, хотя такое желание не свидетельствовало о любви к ней, все же не испытала огорчения: теперь она знала, что никакая женщина не удерживает его в Неаполе.
Назавтра, в десять часов вечера, дон Альваро вызвал его к себе.
Мигель мог предполагать только одно: что отец собирается дать ему наставления перед отъездом. Маркиз де ла Серна предложил сыну сесть, взял со стола распечатанное письмо и подал ему.
Это было письмо из Мадрида. Тайный агент маркиза в осторожных выражениях сообщал ему о внезапной опале, постигшей герцога де Медина. Того самого вельможу, у которого Мигель собирался стать пажом. Юноша медленно свернул листки и, не проронив ни слова, вернул отцу письмо. Отец сказал:
— Вот вы и съездили в Испанию. Дон Мигель выглядел настолько ошеломленным, что маркиз счел
нужным добавить:
— Не знал, что вам так не терпится удовлетворить ваше честолюбие.
И с вежливой снисходительностью туманно обещал, что взамен подыщет ему здесь другую должность, достойную его происхождения. Затем добавил:
—Из чувства братской любви вам следовало бы остаться в Неаполе.
Дон Мигель поднял глаза и взглянул на него. Лицо маркиза было, как всегда, непроницаемо. Слуга в тюрбане, закрученном на турецкий манер, принес дону Альваро его вечерний кубок с вином. Дон Мигель поспешил откланяться.
Выйдя из кабинета отца, он ощутил прилив невыразимого счастья. Он повторял про себя:
—Господь не допустил этого.
И тут, словно нежданный поворот судьбы заранее оправдывал его поступки, он почувствовал, что теперь может с пьянящей легкостью отдаться во власть своих желаний. Он поспешил к Анне: в этот час она бывала одна. Он сам скажет ей, что остается в Неаполе. Она будет очень обрадована.
Коридор и передняя в покоях Анны были погружены в темноту. Из-под двери выбивался луч света. Подойдя ближе, Мигель услышал голос Анны: она молилась.
И он тут же представил себе ее, с белоснежной кожей, затмевающей белизну рубашки, всецело поглощенную мыслью о Боге. В огромной спящей крепости не было слышно ни единого звука, кроме этого ровного, тихого голоса. Слова молитвы падали в тишине, будто прохладные, умиротворяющие капли росы. Дон Мигель сам не заметил, как сложил руки и тоже стал молиться.
Анна умолкла; слабый луч света погас; наверно, она легла. Дон Мигель на цыпочках отошел от двери. Потом ему пришло в голову, что в передней или на лестнице его может увидеть кто-то из слуг. И он вернулся к себе.
Он с головой окунулся в развлечения и забавы. Его крестный, дон Амброзио Караффа, прислал ему в подарок на девятнадцатилетие двух берберских жеребцов. И он снова пристрастился к верховой езде. Из комнаты, расположенной на одном этаже с покоями донны Анны, он перебрался в другую часть замка, неподалеку от собственных конюшен коменданта.
Отец думал, что он тяжело переживает крушение своих честолюбивых планов. Анна, воспринявшая его переезд как оскорбление, решила, что он вообразил, будто это она помешала ему отправиться в Испанию. Скромность не позволила ей оправдываться, а гордость не дала выказать недовольство. Однако ее огорчение было слишком заметно, и при редких встречах в большой зале или в переходах замка дон Мигель строго спрашивал, чем вызвана такая нескрываемая
Он стал бывать при дворе вице-короля, хотя не испытывал к этому большой склонности. Но там у него нашлось немного друзей: чисто испанская непреклонность дона Альваро стала вызывать ропот у местной знати. Мигель чувствовал себя одиноким в этом кругу, а пышнотелые неаполитанские красавицы, нарумяненные и увешанные драгоценностями, выставлявшие напоказ полуобнаженную грудь, раздражали его своей похотливостью, лишь едва прикрытой петраркизмом. Анне порою также приходилось присутствовать на этих празднествах. Он видел ее издалека, всю в черном, в юбках, уродливо расширявших бедра; их разделяла толпа. В такие минуты скука, обволакивавшая его в этом зале, становилась просто невыносимой, а люди вокруг казались бледными призраками. Утро заставало его на пороге какой-нибудь таверны в порту, дрожащего от холода, отупевшего от усталости, хмурого, как предрассветное небо. В скитаниях по притонам ему не раз приходилось сталкиваться с доном Альваро. Оба делали вид, будто не узнают друг друга; впрочем, дон Альваро был в маске, как и полагалось при посещении подобных мест. И все же, когда в последующие дни он встречался с отцом у подземного выхода из крепости Святого Эльма, ему чудилось на этом непроницаемом лице подобие саркастической улыбки. Он стал бывать у куртизанок. Но самая юная из них показалась ему древнее Мафусаила. И он так и сидел весь вечер за столом, поглощенный одной, все той же мыслью, угощая вином случайных друзей, а женщины из таверны склонялись над ним, тщетно пытаясь привлечь его внимание.
Однажды ночью он сидел в притоне на улице Толедо, облокотившись на стол и спрятав в ладонях лицо, и смотрел на танцующую девушку. Она не была красива: угрюмый взгляд, в углах рта — горькая складка, какая бывает у тех, кто служит чужим удовольствиям. Ей было самое большее двадцать лет, но каждый видел, как изношена эта жалкая плоть, побывавшая в бесчисленных объятиях. Возможно, наверху ее уже заждался очередной клиент. Сводня крикнула, перегнувшись через перила лестницы: