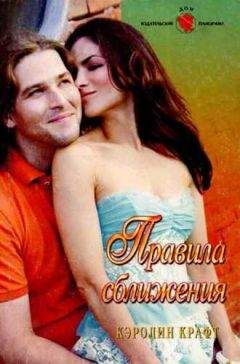Ознакомительная версия.
– Я уже сказала тебе.
– Да, в общей форме. Но вне аудитории я предпочитаю практические советы. Например, Кирилл пишет мне, а он и на одну неделю не может оставить меня в покое! – будто среди евреев возник заговор, преследующий цель перерезать христиан. Вот этот документ. Но, насколько мне известно, существует совершенно противоположный, и христиане намереваются перерезать всех евреев… А между тем я не могу оставить без внимания это послание.
– Я не согласна с тобой, мой повелитель.
– Если что-либо произойдет, – подумай только, какие доносы и обвинения полетят в Константинополь!
– Ты не должен принимать к сведению это послание уже по причине того тона, в котором оно написано. Ибо подобное ущемляет твое достоинство и честь государства. Прилично ли тебе объясняться с человеком, отзывающемся о жителях Александрии, как о стаде, которое царь всех царей поручил его руководству! Кто управляет, – ты, знатный наместник, или гордый епископ?
– Право, моя прекрасная повелительница, я уже перестал вникать в этот вопрос.
– Ну, так объяви ему, но только устно, что частное сообщение касается не его, епископа, а тебя, правителя. Поэтому ты можешь принять к сведению его письменные заявления, лишь в том случае, если он представит официальный документ в суд.
– Прекрасно! Царица дипломатов и философов! Я повинуюсь тебе. Ах, почему ты не Пульхерия?[22] Впрочем, тогда в Александрии царил бы мрак, и Орест не удостоился бы высокого счастья поцеловать руку, которую Паллада, сотворившая тебя, заимствовала у Афродиты.
– Вспомни, что ты христианин, – заметила Ипатия с легкой улыбкой.
Префект простился с ней, миновал приемный покой, переполненный аристократическими учениками и посетителями Ипатии, и, раскланиваясь с ними, прошел мимо, обдумывая удар, который он готовился нанести Кириллу. Перед входом стояло много экипажей, рабов, державших зонтики своих господ, толпа мальчишек и торговцев. Свита префекта наделяла зевак пинками и подзатыльниками, но они не роптали. «Как могущественна Ипатия, если сам великий наместник Александрии удостоил ее своим посещением!» – думали они. Среди толпы виднелись и недовольные, хмурые лица, ибо в большинстве своем она состояла из христиан и беспокойных политиков, потомков александрийцев – «мужей македонских».
Садясь в колесницу, префект увидел стройного молодого человека, столь же роскошно одетого, как и он сам. Он спускался по лестнице и небрежным движением руки подозвал негритенка, державшего зонтик.
– Ах, Рафаэль Эбен-Эзра! Мой дорогой друг! Какой благосклонный бог… я хотел сказать – мученик, привел тебя в Александрию именно тогда, когда ты мне нужен?! Садись рядом со мной и поболтаем немного по пути к зданию суда.
Молодой человек принял приглашение. Он приблизился и низко поклонился префекту, хотя этот поклон не только не смягчал, но, по-видимому, и не должен был смягчать пренебрежительного и недовольного выражения его лица. Он спросил, растягивая слова:
– В связи с чем наместник цезарей оказывает такую великую честь одному из своих покорных слуг, который…
– Не беспокойся, я не намереваюсь занимать у тебя деньги, – со смехом отвечал Орест, когда Рафаэль сел рядом с ним.
– Рад это слышать. В семье достаточно и одного ростовщика. Мой отец копил золото, а я растрачиваю его и думаю, что это все, что требуется от философа.
– Не правда ли, как красива эта четверка белых никейских коней? Только у одного из них серое копыто.
– Да… Но я прихожу к убеждению, что лошади надоедают, как и все остальное: они то хворают, то разбивают седока и вообще тем или иным способами нарушают его душевное равновесие. В Кирене меня чуть было до смерти не замучили поручениями по части собак, лошадей, оружия, требующихся его святейшеству, престарелому Нимвроду[23], епископу Синезию.
– Теперь переключись на время на низменные земные дела. Кирилл пишет мне, что евреи собираются перерезать всех христиан.
– Прекрасное, доброе дело! Я бы сердечно порадовался, если бы это подтвердилось. Я думаю, что это соответствует истине.
– Клянусь бессмертными богами… я хочу сказать – святыми! Неужели ты в этом уверен, Рафаэль?
– Да отвратят от меня четыре архангела подобные помыслы. Меня это нисколько не касается. Я только думаю, что мой народ состоит из таких же глупцов, как и прочий мир, и, вероятно, носится с подобными планами. Ему это, конечно, не удастся, и потому ты не должен тревожиться. Если же ты придаешь значение этим сплетням – я им значения не придаю – то могу расспросить обо всем одного из раввинов, так как приблизительно через неделю должен посетить синагогу по делам.
– О, ленивейший из смертных! Мне нужно сегодня же дать ответ Кириллу.
– Лишний повод не осведомляться у своих соплеменников! В таком случае ты можешь заявить со спокойной совестью, что ничего не знал об этом деле.
– Хорошо. По здравому рассуждению такое неведение кажется мне надежной точкой опоры для несчастного государственного мужа. Поэтому не торопись.
– Могу уверить твою светлость, что мне это и в голову не приходит…
– Смотри, вон Кирилл спускается по ступеням Цезареума. Представительный мужчина, хотя и похож на свирепого медведя.
– А за ним следуют его птенцы. Какая мошенническая физиономия вон у того стройного молодца, монаха-псаломщика или что-то в этом роде, судя по одежде.
– Вот они шепчутся друг с другом. Да ниспошлет им Небо приятные думы и более привлекательные лица!
– Аминь! – воскликнул Орест с насмешливой улыбкой. Он произнес бы это с большим убеждением, если бы мог слышать ответ Кирилла Петру:
– Он идет от Ипатии, говоришь ты? Но ведь он только сегодня утром вернулся в город.
– Я видел его лошадей у ее дверей, когда полчаса тому назад шел сюда по улице Музея.
– Мир, плоть и дьявол знают своих приверженцев, которые не придут к нам, пока у них есть возможность посещать своих собственных пророков. Нечего и ожидать этого, Петр.
– А если убрать с дороги этих пророков?
– Тогда, за отсутствием лучшего развлечения, они вспомнили бы и о нас… Царство Божие в Александрии попирается ногами и власть принадлежит не епископам и священникам единого Бога, а предводителям мира сего, с их гладиаторами[24], ростовщиками и паразитами. И так будет до тех пор, пока возвышаются эти аудитории, египетские храмы, полные языческих обольщений, эта выставка сатаны, где дьявол преображается в ангела света, подражает христианской добродетели и украшает своих слуг наподобие служителей истины.
Сопровождаемые небольшой кучкой параболанов, Кирилл и Петр направились по набережной и внезапно скрылись в темном переулке тесного и нищего матросского квартала. Но мы не будем сопутствовать им в делах милосердия, а подслушаем беседу наших изящных друзей.
– За маяком дует отличный ветер, Рафаэль. Это очень хорошо для моих кораблей с пшеницей.
– Они уже отплыли?
– Да. А что? Первую флотилию я отправил три дня тому назад, а прочие снимутся с якоря сегодня.
– А, так ты, значит, ничего не слышал о Гераклиане?[25]
– Гераклиан? Какое отношение – во имя всех святых – имеет наместник Африки к моим судам с пшеницей?
– О, никакого. Меня это дело не касается, но я слышал, что он готовит восстание. Но вот мы уже у твоих ворот.
– Он готовит восстание? – повторил Орест испуганным голосом.
– Он хочет восстать и завладеть Римом.
– Всеблагие боги! Я хочу сказать – боже мой… Вот еще новая забота. Войди и поведай все несчастному жалкому рабу, именуемому наместником. Но говори тихо, ради самого Неба! Надеюсь, что эти предатели-слуги не расслышали твоих слов.
– Нет ничего проще, как сбросить их в канал, если они услышали что-либо, – произнес Рафаэль, следуя с невозмутимым спокойствием за взволнованным префектом.
Бедный Орест остановился, дойдя до покоев, выходивших во внутренний двор. Тут он знаком подозвал еврея, запер дверь, бросился в кресло, уперся руками в колени и, охваченный страхом и смятением, уставился в лицо Рафаэлю.
– Расскажи мне все, все немедленно!
– Я уже сказал тебе все, что знаю, – ответил Рафаэль, спокойно опускаясь на диван и играя кинжалом, украшенным драгоценными камнями. – Я думал, что тебе известна эта тайна, а то бы я ничего не сказал. Меня ведь это не касается.
Оресту, как большинству слабых и развращенных людей, в особенности римлян, была присуща звериная жестокость, и она теперь проснулась в нем.
– Ад и фурии! Бесстыдный провинциальный раб! Твоя наглость не знает границ. Знаешь ли ты, кто я, проклятый еврей? Открой мне без утайки всю правду, или, клянусь головой императора, я ее вырву у тебя раскаленными клещами.
На лице Рафаэля появилось упрямое выражение. Зловещее спокойствие сквозило в его улыбке, когда он произнес:
– Тогда, мой милый наместник, ты окажешься первым человеком на земле, который заставил меня, еврея, сказать или сделать то, чего я не хочу.
Ознакомительная версия.