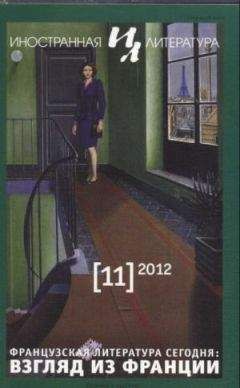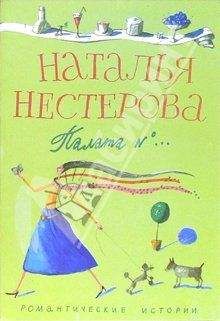Жиль с картины Ватто сочинял неоклассические пустячки; по крайней мере, так говорят сейчас. Но если бы вы, молодой человек, в те времена были поэтом, ну, конечно, не совсем таким, как Рембо, но почти таким же, если бы вы тоже устали от старого поэтического хлама, если бы вы, свернув с бульвара Сен-Жермен, с бьющимся сердцем зашагали по улице Бюси, где жил Банвиль, а в кармане у вас лежало бы медоточиво-доброжелательное письмо, которое он прислал вам в Дуэ или в Конфолан, вы заметили бы, что у вас дрожит рука, когда вы открыли дверцу в воротах дома 10 по улице Бюси; а оказавшись в сумрачном, прохладном, обширном внутреннем дворе, где неумолкающий городской шум звучал словно издалека, словно во сне, вы долго пребывали бы в нерешительности. Вы пребываете в нерешительности; вы смотрите вверх, на безмолвные окна великого поэта, смотрите еще выше, на июнь; ибо сейчас июнь, и крыши служат подножием голубому небесному трону. Но на вас накатил не только июнь; вас остановило сознание собственной поэтической беспомощности; оно навалилось вам на спину, вы шатаетесь под его тяжестью: ибо, с точки зрения июня, ваши стихи про июнь — полное убожество; и даже не с точки зрения июня, который так высоко над нами, который трудноуловим, как сам Смысл, а с точки зрения языка, этого головоломного шифра, этого хрупкого, но всемогущего тигля, в котором выплавляется смысл, и даже не смысл, а игра в смысл, все, что похоже на смысл, — даже и с этой точки зрения ваши стихи не выдерживают никакой критики; а еще они далеки от жизненной правды, поскольку не могут отобразить вашу сущность, дать понять, что вы — воплощенная страдающая пустота, чистая взыскующая молитва. Молитва на июньском языке. Нет, ничто не восторжествует в поэзии, если нарушена мера — ни июнь, ни язык, ни вы. Поэтому вы пускаетесь наутек, вот вы уже на Аустерлицком вокзале, как прекрасны поезда по вечерам, если ты избавился от необходимости писать об этом.
Но, быть может, вы не убегаете оттуда: над вами в июньском небе пролетает воробей; и вы бормочете себе под нос одну из тех строк, которые мы называем совершенными, ибо они признаются нам в невозможности отобразить одновременно июнь, собственную тоску и язык в его целостности, но при этой невозможности все-таки существуют и твердо стоят на ногах, да еще звучно сморкаются; это строка Бодлера; и кто-то из них, воробей или Бодлер, подсказывают вам, что самозванство и поэтическая беспомощность — это еще и своеобразное проявление мужества. Тут вы прощаете самого себя. И еще вы прощаете Банвилю — который всего лишь человек — то, что он, за недостатком июня, сделал окончательный выбор в пользу языка, зарылся в него и там, внутри, стая «звуком волшебным лиры», то есть перестал быть личностью. Лира нас не пугает, мы боимся только людей: поэтому вы взбегаете по лестнице во всю силу молодых ног и звоните в дверь Теодора де Банвиля.
(Я, конечно, мог бы увидеть вас вдвоем, по разные стороны от огромного букета пионов или гортензий, стоящего на письменном столе поэта: наивного простачка, который в то же время — неизреченный звук, и вас. Вы не сказали бы, что приехали просить у него маленький черенок, из тех, что передаются от старого к молодому, маленький черенок гениальности, иначе говоря, право есть из поэтической кормушки либо плевать туда, и незаполненный пропуск во всякие там академии, или на Гернси, или в Харар — по вашему выбору; а он не сказал бы, что собирается вручить его вам, ведь такое не говорится, а подразумевается, когда разговор идет о другом. И разговор действительно идет о другом, я его слышу; мелодичный голос Банвиля становится еще мелодичнее, когда он превозносит форму, истину, которая кроется не столько в наших желаниях, сколько в синтаксисе, не столько в наших сердцах, сколько в рифме, он изрекает всевозможные нелепости в духе литературного гедонизма, изображает из себя корифея эпохи Просвещения, он доверяет лишь разуму — а у вас, наполовину скрытого огромным букетом пионов, — у вас, надо думать, лицо побагровело, как их лепестки, зубы стиснуты, и вы мысленно повторяете старую песню о Смысле, о спасении через язык, о Боге, который в языке желает явить нам себя, но не может — из-за Банвиля и ему подобных, вы мысленно изрекаете всевозможные нелепости в духе литературного идеализма, изображаете из себя «красный жилет», вы доверяете лишь сердцу; или, напротив, желая угодить Банвилю, желая показаться таким, каким он ожидал вас увидеть в ваши восемнадцать лет, вы разражаетесь гневной тирадой о том, что лишь сердцу и можно доверять; и ваша дерзость столь красноречиво свидетельствует о вашей юности, что вы чувствуете, как ваша спина, спина крепкого парня из Конфолана, трещит под напором вырастающих крыльев; и добрый, великодушный Банвиль притворяется, что видит эти крылья. Он улыбается. Он говорит, что вы напоминаете ему Буайе и Бодлера в их двадцать лет: и в это мгновение вы поймете, что он протянул вам поверх пионов невидимый черенок, который вы взяли, даже не встав с места, и теперь он у вас в кармане.
Какое спокойствие на вас тогда снизойдет, какую силу вы в себе ощутите, какие горизонты откроются перед вами — а все потому, что вы не Артюр Рембо.
IV
Итак, поэт, больше не отбрасывающий тени
Итак, поэт, больше не отбрасывающий тени, получил два письма от совсем юного Рембо, отбрасывающего на нас такую же громадную тень, как маленький остроконечный колпак Данте на итальянский язык и как лавры Вергилия на самого Данте — ибо писатели люди внушаемые, мнительные и свято верящие в авторитеты. Читая эти письма, Банвиль сразу учуял, что имеет дело с новым Жюльеном Сорелем, на сей раз из арденнской глуши; тут он не ошибся: письма — это силки, расставленные на ближнего, на того единственного ближнего, которого мы хотим изловить и приручить; и Рембо отлично владел ремеслом птицелова. Стихи — ловушка похитрее, для более разборчивой жертвы. По стихам, которые сопровождали письма, обосновывали и оправдывали их, Банвиль наверняка определил, что к нему обратился вовсе не Растиньяк и не Жюльен Сорель, а кто-то совсем другой, ведь Банвиль, будучи Банвилем, то есть вчерашним днем, старым ворчуном, чей взгляд и помыслы постоянно прикованы к куполу Академии, все же знал, как спаять друг с другом две стихотворные строки и, что гораздо труднее, как таким вот инструментом из двух строк захватить и удержать кусочек мира; он знал, он же занимался этим всю свою жизнь. В одаренном стихотворце, юном, но далеко не наивном, избравшем себе образцом Гюго, за его очевидными рифмами Банвиль расслышал иную, скрытую, неизвестную даже автору рифму: ей абсолютно безразличен тот, через кого она пением либо скрежетом выражает себя; она происходит от очень древнего способа связывать воедино июнь, язык и самого себя, иногда из этой связки рождается музыка: совсем маленький выводок, всего какие-нибудь три-четыре ноты, но деспотично повторяющиеся и сочетающиеся друг с другом, говорят, именно их разнообразные сочетания и делают поэта великим; этот выводок, или эта мелодия, или эта деспотичность нарушает планы рифмоплета и решает все за него, от начала до конца: возможно, именно она решает, что вы однажды проснетесь Жюльеном Сорелем или в полдень своей жизни сочините некую вещицу, такую же неотразимую безделицу, как колпак Данте (и, в ожидании лучшего, опубликуете ее под названием «Цветы Зла» — так, ничтожно малый этап в завоевании Парижа), что всю вторую половину дня вы будете тщетно ждать, когда эта вещица сделает вас королем, и что вечером, сами не зная, как такое случилось, вы будете сидеть в скверном брюссельском трактире и без конца, до исступления, повторять одно и то же полуслово — «клятье»; и что, ложась спать, вы все еще будете считать себя Жюльеном Сорелем, будете так думать до конца своих дней, унесете это убеждение с собой в могилу, несмотря на то, что когда-то написали «Цветы Зла». По крайней мере, однажды Банвиль уже встречал такое вот заблудшее честолюбие, которое делает из людей великих поэтов, встречал во плоти и крови, это у него он отбил толстуху Мари Добрен, для него просил у министра нищенскую пенсию; его сумел распознать. Вот почему теперь он сразу распознал его в стихах Рембо. Так нам, поклонникам, хочется думать; но порой в нас закрадывается сомнение; когда сомневаешься, говоришь себе, что с этой музыкой все не так просто, быть может, мы сами создали ее нашими истовыми молитвами, мы, а не Бог, мы, а не все девять муз, слетевшиеся в Шарлевиль, мы, а не гений, что эти ноты на нотном стане начертало наше пламенное обожание, длившееся целое столетие. Что бы мы себе ни говорили, ясно одно: традиция сложилась; возможно, это всего лишь незатейливая песенка, но в нас она отдается торжественными звуками органа.
Нам, поклонникам, хочется верить, что Банвиль услышал именно орган; что он, возможно, услышал в стихах школьника отзвуки прыжков Карабос, беснующейся во внутреннем пространстве; ее радостную встречу с Капитаном; безупречный брак, соединивший сигнал горна с молитвой; смехотворную в своей обыденности домашнюю драму, возвеличенную до размеров пышной литургии, рассказанную ясным и внятным языком, но словно окутанную некоей пеленой, неузнаваемую. Если обратиться к более старомодным образам, взятым из тогдашней системы представлений, а не из нашей, современной, где все и всегда принято объяснять проблемами в семье, — то скрытая рифма, которую услышал и распознал Банвиль, являла собой силу, которая сталкивает гнев и жалость, неутихающую обиду и милосердие, причем держит их не в одной руке, а в разных, не давая им соприкасаться и смешиваться, не допуская примирения между ними, угасания их взаимной вражды — и вдруг выбрасывает их на арену, словно бойцовых петухов, подзуживает, растаскивает и спускает вновь, сопровождая кульминационные моменты схватки тревожным рокотом барабанов. Если ваше личное преклонение перед Рембо подсказывает вам другие метафоры (которые вы принимаете за идеи, и которые ими являются), вы назовете участников этого поединка по-своему; скажете, что это бунт и чистая любовь, или небытие и спасение, или падение в бездну и в этом падении — неизменное присутствие того, кого уже не называют Богом; вы скажете, что это скорбь по утраченному Богу и блеф, с помощью которого нам возвращают Бога; если вы не любите Бога, вы скажете: это радость стихийная — от сознания, что ты жив, и радость безнадежная — от сознания, что ты — раб смерти. Называйте, как хотите, это не важно; важно только, чтобы эти медные тарелки были в чьих-то крепких руках, чтобы их умело ударяли друг о друга, и они производили шум, который мы слышим в стихах Рембо. Прислушиваясь к этой музыке, Банвиль, который был по-своему честен, который сам давно утратил внутреннюю рифму, но умел распознавать ее у других, Банвиль задумчиво взял перо и приготовился писать ответ; в шелковой шапочке, за большим письменным столом поэта, перед букетом пионов, глядя на какую-нибудь псевдоантичную статуэтку, превращенную в пресс-папье, задумчиво помешивая ложечкой чай с ромом (Верлен говорит, что у Банвиля пили такой чай), размышляя, взвешивая все «за» и «против», этот человек, похожий на Жиля, сочинил ответ. Он предсказал юноше из Арденн блестящее будущее и послал ему по почте пресловутый черенок, в одном из писем, которые до нас не дошли.