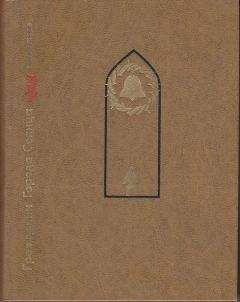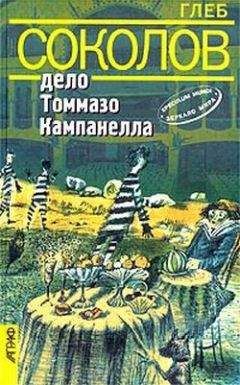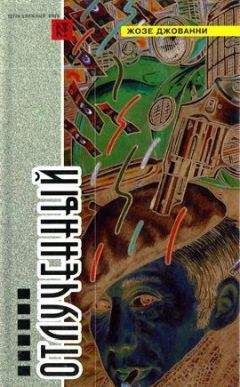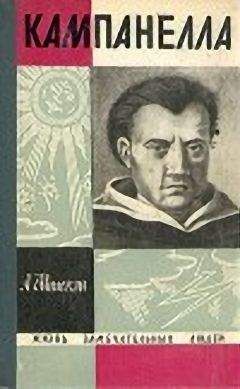Глава III
В Стило бушевала разгульная ярмарка. Противостоять ее соблазнам Джованни не мог. Но когда она кончилась, когда откричал свои дерзкие шутки в кукольном театре Пульчинелла, когда как сквозь землю провалились бродячие жонглеры, словно ветром сдуло с площади балаганы, доминиканец спросил Джованни, не случалось ли ему слышать рассказы о невежественных, жадных и лицемерных монахах. Как только догадался, что его ученика давно и сильно мучили мысли об этом? Ну конечно, Джованни слышал такие истории. Их рассказывали повсюду. Особенно в беспутную пору ярмарки. Рассказывали взрослые, и повторяли за ними мальчишки.
Например, о споре между братьями-кармелитами и другими монахами, кому в дни церковных праздников идти в голове процессии. Спор дошел до герцогского совета. Главу кармелитов спросили: «Когда образовался ваш орден?» Он горделиво ответил: «Мы были монахами в то время, когда еще не было святых отцов, основавших другие ордена». И тут герцогский шут, выслушав эти небылицы, сказал: «Святой отец говорит истинную правду, во времена апостолов не было других братьев, кроме них. Это их подразумевает апостол Павел, когда пишет: „Погибель от лживых братьев“. От этих лживых братьев и пошли кармелиты».
Но это была еще сравнительно невинная история. А были куда более опасные. Вот исповедник устраивает так, чтобы ревнивый муж мог подслушать исповедь неверной жены. Монах оказывается гнусным нарушителем тайны исповеди. А другой монах, искренне верующий и благочестивый, — простофиля. По его глупости отъявленного злодея после смерти объявляют святым. Еще один монах, проходимец из проходимцев, сулит крестьянам показать одно из перьев архангела Гавриила, выдавая за него перо попугая. Однажды услышав подобную историю, Джованни запоминал все: и то, что в ней происходило, и слова, которыми передавал ее рассказчик, и его многозначительную улыбку, и лукавое подмигивание, и хохот слушателей. А чего только не рассказывали о распутных монахах! Вот монах, уверив простушку, что в нее влюблен ангел, является к ней в образе этого ангела и овладевает ею. Вот другой, обещав куме, что разбудит ее дочь-лежебоку, развлекается с девицей всю ночь.
Джованни знал: слушая такое, он впадает в смертный грех, но был не в силах оторваться от этих рассказов. В них звучало не только осуждение распутных монахов, но и прославление телесных соблазнов, устоять перед которыми трудно.
Выросший в тесном деревенском домишке, Джованни, конечно, представлял себе, что такое плотское соитие. Но с некоторых пор любое слово об этом, любой намек на телесную близость с женщиной вызывал в его теле мучительно-сладостное томление. И сны. Он знает, они греховны, но вечером хочет, чтобы они снова ему приснились.
Вот почему он так смутился, когда учитель спросил, не случалось ли ему слышать о недостойных священниках и монахах. Он покраснел, кивнул головой, но не вымолвил ни слова. И тогда доминиканец тихо и проникновенно проговорил:
— Не стану уверять, будто среди духовных пастырей нет таких, которые погрязли в мерзости пороков и утонули в пучине грехов, но именно из этого, сын мой, ты можешь узреть, сколь велика мощь и непобедима истина христианской веры и нашей святой римской церкви, если грешники, прикидывающиеся ее сынами и слугами, не могут причинить ущерба ее славе! Чем мерзостнее их пороки, тем больше ее святость. Их низкие поступки не затрагивают чистоты ее белоснежных риз. Так грязь, засохнув, отлетает от плаща праведника, превращаясь в пыль под его стопами.
Случалось старому доминиканцу и его ученику говорить и о другом. Начертив мелом на дорожном камне треугольник, рассуждать о законах геометрии и о божественной мудрости, проявляющейся в них. На восковых табличках для записи упражняться в счете. Заучивать с голоса учителя строки его любимых древних поэтов. Сколь горько знать, что они, взысканные такими талантами, родились и умерли язычниками, скорбел наставник. Он не пожалел бы трудов, дабы обратить в истинную веру, например, Вергилия, но нет дороги, ведущей вспять в те века, когда жил сей поэт. Необратимость быстротекущего времени тоже становилась предметом их бесед.
Сапожник Джеронимо стал все чаще с удивлением замечать, как изменились речи сына, как много в них ученых слов и мудреных мыслей. Простому человеку и не разобраться. Речь Джованни стала неспешной, размеренной, нечто отрешенное от дел земных и мелких уже звучало в его голосе. И он уже привыкал, подражая наставнику, ходить, опустив глаза, сосредоточившись на своих мыслях.
А думал он теперь все больше о несправедливости. Почему один живет в богатстве, довольстве, роскоши, а другой рождается в нищете и всю жизнь мыкается в бедности, ест впроголодь, одевается в рубище? Почему один до старости наслаждается здоровьем, а другой рождается на свет калекой? Разве это справедливо? За какие грехи насылаются на человека, еще не успевшего согрешить, бедность и болезни?
— Давно я ждал таких вопросов, — сказал наставник. Джованни показалось, он обрадовался, что услышал об этих сомнениях своего питомца.
Они сидели на краю оливковой рощи, шелестящей синевато-серыми листочками, опустив ноги в пересохшую канаву. Джованни глядел на спокойное лицо учителя, слушал его тихий голос, которым тот повторял много раз одно и то же, находя все новые доводы. Джованни заметил: если он внимательно вслушивается в речь учителя, он скоро перестает слышать что-нибудь, кроме нее, — ни шелест травы, ни скрип песка под подошвами, ни резкие голоса женщин на винограднике не проникают более в его слух. Странное оцепенение охватывает его. И сквозь него пробивается, заполняя все его существо, все его мысли, один только голос учителя, вытесняя сомнения, давая ответы… И начинает казаться: тревожиться о людском неравенстве, о несправедливости, царящей в мире, не надо. Богатство и здоровье — тленные земные блага. Хворый и убогий на земле, бедный и несчастный в сей жизни, столь краткой, таким опасностям подверженной, будут вознаграждены сторицей в жизни вечной. И уж совсем нет дела до преходящих земных благ тому, кто посвятит себя высшему благу, откажется от скоротечных земных радостей, сделает для себя законом обеты нестяжания, целомудрия, повиновения, постоянства — станет монахом.
Учитель много странствовал, живал подолгу в доминиканских обителях Франции, Испании, Германии. Джованни не мог себе представить других стран с другими языками и другими обычаями. Горы, окружавшие Стило и Стиньяно, были границей его мира. Даже Неаполь казался невероятно далеким. Что говорить о Риме, Париже, Мадриде, Кельне!
Наставник посохом рисовал на песке набросок карты.
— Вот Альпийские горы, вот море, вот начинаются чужие края. — Упоенно рассказывал он о знаменитых монастырских библиотеках, где на длинных полках бережно сохраняются бесценные тома Священного писания и сочинения отцов церкви, старательно переписанные от руки, дивно изукрашенные рисунками. Об искусных почерках старинных переписчиков, о смиренных примечаниях в конце тома, где переписчик называет свое имя, просит помянуть его за этот труд в молитвах, а ошибки извинить. Он рассказывал о новых книгах, которые стали появляться лет сто с лишним назад, книгах, отпечатанных посредством хитроумного искусства «типографии». В праведных руках оно служит распространению слова божьего, апостольских поучений, трудов святоотческих, но в руках еретиков оно — страшная опасность, хуже моровой язвы. Когда он говорил о книгах, спокойное его лицо чуть розовело, а в голосе звучало волнение. Однажды, упомянув сочинения латинских ораторов и поэтов, которые собраны в библиотеке Лауренциана, что во Флоренции, он вздохнул: «Грешен! Не могу победить в себе тяги к сочинениям времен языческих. Каюсь в том, как некогда каялся святой Иероним, прославившийся переводом Библии на латинский язык». И, помолчав, снова вернулся к рассуждению о том, что нет такой степени учености, учености во славу веры, которую нельзя было бы обрести в монастырских стенах.
— А университет? — осмелился спросить Джованни.
В своей глуши он и слова бы такого — «университет» — не услышал, если бы однажды в Стило не забрела ватага странствующих студентов. Что привело их сюда? Кто знает! Жителей богом забытого Стило до полусмерти напугал их вызывающий вид, их дерзкие песни, острые шпаги под оборванными плащами, громогласная божба, ненасытный аппетит, неутолимая жажда. За несколько дней, что они провели в Стило, ночуя, впрочем, за городскими стенами, как было осторожности ради предписано властями, они одним горожанам написали красноречивые прошения, другим составили гороскопы, третьим продали лекарства и дали медицинские советы. Они вскружили головы многим девицам и замужним дамам, заняли деньги в долг у простаков и стянули то, что плохо лежало.
Буйную братию Джованни впервые увидел, возвращаясь из Стило в свою деревню. Студенты сидели на опушке рощи вокруг костра, жарили на вертеле гусей и кур, которых в это время оплакивали хозяйки. Разумом Джованни страшился беспутных пришельцев, но сердце влекло к ним. Вначале студенты хотели прогнать его, потом позволили остаться. Он провел в их обществе несколько дней, вместе с ними нарушал пост и еще несколько заповедей сразу. Учитель прихворнул, отлеживался в доминиканской обители, а дома уже давно не вникали в то, где пропадает сын. От школяров Джованни наслушался таких речей и песен, что пришлось исповедоваться в неурочный день. На этот раз епитимья была на него наложена строгая: пятьдесят раз прочитать «Верую» и поститься месяц во все скоромные дни.