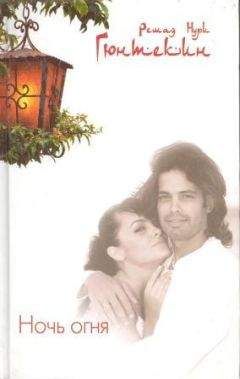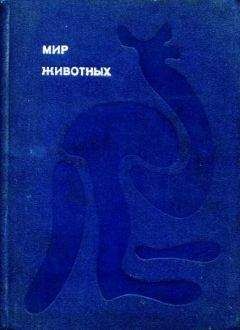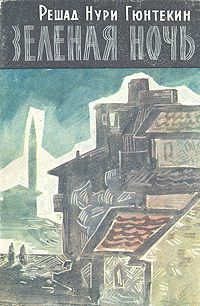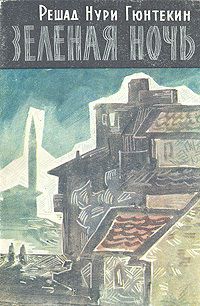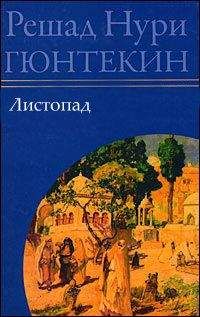В кабинете директора сидели два незнакомых человека. Мне показалось странным, что один из них — комиссар в военной форме.
На лице директора отчего-то застыло приятное и спокойное выражение.
— Кемаль-эфенди, идите в спальню и наденьте верхнюю одежду... а также соберите ваши вещи, — сказал он, почему-то не глядя мне в глаза.
Значит, меня выгоняют из училища. Да еще ночью, с полицией...
Нужно было немедленно что-то сказать, чтобы не выглядеть дураком.
Люстры кружились у меня над головой, а я, заикаясь, говорил:
— Господин директор... я совершил глупость. Это в первый раз, поверьте.
На этот раз директор поднял на меня глаза и спросил:
— Что в первый раз?
Еле слышно и подавленно я пробормотал:
— Списывал...
— Вы списывали? Очень плохо... От вас я такого не ожидал. Впрочем, это здесь ни при чем. Вы поедете с этими господами...
— Куда?
На этот раз пришел черед директора удивляться и заикаться.
— Нечего бояться, сынок... Разумеется, вы под защитой своего отца. Вот и эти господа точно так же.. Вы, конечно, видите, они чиновники... Так вот, сынок, вы поедете в одно место.
Масса вопросов вертелась у меня на языке: «Если все так просто, зачем мне собирать вещи? Куда меня повезут?» Но я не задал их. Что-то подсказывало мне, что ответов я не получу, а молчание еще больше напугает меня.
Рядом с директором в кресле сидел полный мужчина с коричневыми усами. На нем были очки в золотой оправе. Без сомнения, главная роль теперь отводилась ему.
Когда мы встретились взглядами, он вдруг поднялся и, стараясь говорить как можно мягче, произнес:
— С тобой, сынок, мы станем друзьями. — Должно быть, пытаясь внушить мне доверие, он солгал: — Ваш отец просил передать привет. Он вас целует и завтра утром приедет навестить.
Вот и все, что было сказано в кабинете директора. Я настолько потерял дар речи, что даже с уборщиком в спальне словом не перекинулся, когда пришел наверх, чтобы переодеться в новый костюм и быстро собрать вещи.
Наконец мы остановились перед темным каменным зданием и в свете фонаря, который висел над дверью, прошли между двух караульных с ружьями. На следующий день я узнал, что меня привезли в Министерство полиции.
В маленькой комнате, наполненной шкафами и бумагами, молодой офицер с перевязанным подбородком спросил мое имя и место рождения. Пока я диктовал ему, сидя перед столом, покрытым клеенкой, мои спутники исчезли и больше не появлялись.
Эту и следующую ночь я провел в одиночестве в комнате с высоким потолком и окнами, где не было ничего, кроме железной кровати, табуретки и деревянного шкафа. Кто-то забыл в ящике шкафа старый толстый роман «Путешествие под землей». Я беспрерывно читал, чтобы как-то занять себя. Несмотря на обещания человека в золотых очках, отец появился только на второй день ближе к обеду.
Как странно! Два года назад мой отец перенес небольшой инсульт и с тех пор так до конца и не оправился. А теперь он выглядел необычно бодрым и веселым.
Даже хромота на правую ногу и небольшой дефект речи будто исчезли.
Его слова напомнили мне детство, когда он еще носил черные усы на немецкий манер, блестящую форму и бряцал саблей, приходя из казармы.
— Дай тебе Аллах здоровья, юноша. Ну как ты? — спросил отец. Он трепал меня по щеке, улыбался, но не говорил, за какую провинность меня заточили здесь.
Рядом стоял тот самый офицер с перевязанным подбородком, который оформлял меня в ночь прибытия. Вместо того чтобы беседовать со мной, отец все время обращался к офицеру, называя его «сынок» и «боевой товарищ».
Тот отвечал крайне уважительно, стоял чуть ли не по стойке смирно и называл отца «полковник», но почему-то у меня защемило сердце от жалости к отцу. А он как будто ничего не замечал: офицер, видимо, недавно вернулся из Македонии, и отец задавал ему бессмысленные вопросы о стране. Потом он вдруг повернулся ко мне, как будто вспомнив что-то, и сказал:
— Кемаль, тебе предстоит небольшое путешествие. Недалеко, до Миласа[14]... Разумеется, ты знаешь это место. Милас лучший уголок в Измирском регионе... В молодости путешествовать приятно... Это приносит даже больше пользы, чем учеба. Я был примерно в твоем возрасте, когда меня, молодого лейтенанта, отправили в Эрзурум[15]... Ну, может, на пару лет постарше... Подумай, где Эрзурум, а где Милас...
В нашем доме запрещалось говорить о политике. Но из обрывков сплетен, носившихся в воздухе, молодые люди того времени составляли достаточно полное представление о действительности. Я понимал, что рядом с этим офицером нужно было о чём-то умалчивать, и, стараясь вторить отцу, я повторял:
— Конечно, папа... очень хорошо... Меня всегда интересовали путешествия...
— Через две-три недели мы с мамой приедем навестить тебя. Хотели поехать прямо сейчас, но появились некоторые неотложные дела.
— Папа, когда я еду?
— Сегодня, сынок... Через пару часов...
— Я что, не смогу увидеть маму и братьев?
— Мама хотела приехать, но у нее гости.
— А братья?
— Они не здесь, сынок... Твой брат Хайри получил назначение в Бингази и вчера уехал. Шукрю в Bai’- даде...
— А невестки?
— Разумеется, они уехали вместе с мужьями... Погоди, я забыл сообщить тебе хорошую новость. Шукрю теперь в звании колагасы[16].
— Я очень рад, папа...
Отец вновь повернулся к офицеру и, посмеиваясь, начал рассказывать:
— Как говорится, «просеяли муку, повесили сито на стену». Мы думали, что так и будет, но не вышло. Теперь мы, два старика, рука об руку станем сновать туда-сюда между Бингази и Миласом. Еще и Багдад, но туда ехать долго и дорого. Мы это направление всерьез не рассматриваем.
Тут появился сержант и ненадолго вызвал офицера куда-то, а когда их шаги стихли, отец внезапно понизил голос и быстро зашептал:
— Кемаль, когда я приеду в Милас, мы с тобой нормально поговорим. Пока я расскажу тебе вкратце. На самом деле ничего интересного!.. Ты ведь знаешь, что твоя невестка Сабиха — из приближенных наследника престола Решата-эфенди. Когда мы брали ее в семью, не поняли, что это противоречит воле султана. Очевидно, что меня, старика-инвалида, за человека не посчитали, но насчет вас, трех братьев, имеется высочайшее повеление: вы поедете туда, куда я сказал. Там вы будете совершенно свободны. Ты должен все это знать, но смотри, никому не рассказывай.
Ближе к вечеру я покидал Стамбул на пароме «Хаджи-Давуд», наполненном солдатами. Отец почему-то не пришел меня проводить, хотя и обещал.
Первые дни я не мог не жаловаться на жизнь. Меня никак не покидало ощущение, что отсюда я уже не вырвусь. По вечерам, когда темнело, меня терзали те же странные чувства, что и в первый вечер. Но, по правде говоря, все это длилось недолго. Привязанности к семье я не испытывал. Старшие братья были намного взрослее меня: они уже учились в школе-пансионе, когда я был еще младенцем. Оба женились, как только по лучили право носить сабли, и сразу разъехались.
Мать постоянно грустила и говорила об умерших. Если что-то ее смешило, а случалось это раз в тысячу лет, она сразу огорчалась, как будто сделала что-то постыдное. «Не знаю, над чем это мы смеемся?» — вздыхала она.
Что касается отца, он был настоящим воином, шумным и веселым. Но позже я понял, что мать не смогла привязать его к дому. Днем он пропадал в казарме, а ночью — в кофейнях нашего квартала. Когда же он изредка оставался дома, то был занят тем, что ухаживал за деревьями: прививал их, обрезал ветки. А после того, как он вышел в отставку и вскоре заболел, дом и вовсе погрузился в уныние.
Меня воспитывали довольно строго. Болтовня и шутки не встречали снисхождения: «Почему Кемаль непохож на старших братьев? Он такой легкомысленный, несерьезный», — частенько расстраивались родители. Выходить на улицу и играть с соседскими детьми мне запрещалось. Когда же я в возрасте примерно девяти лет дома произнес ругательство, которому меня научили друзья, отец забрал меня из школы и нанял мне домашнего учителя.
В каникулы я скрепя сердце вместе с отцом спускался в сад и, слушая веселые детские голоса, доносившиеся с улицы, помогал ему прививать деревья и резать ветки. Иногда отец заставлял меня собирать травы, цветы, листья и пытался рассказать о различных видах растений, с гордостью повторяя, что об этом нельзя узнать из школьных учебников. Но поскольку его собственные познания не были ни надежными, ни обширными, число видов, которые я выучил, не превышало пяти-шести.
Хотя я никогда не любил учиться, поступив в инженерное училище, я почувствовал такое облегчение, как будто вышел из тюрьмы.
Нынешняя ссылка расширяла эту свободу безгранично, возводя меня в ранг взрослого человека, за которым никто не присматривает и в жизнь которого никто не вмешивается. В детстве я очень любил с утра понежиться в постели. Отец же, как назло, мне в этом препятствовал. В ранний час он приходил в мою комнату и брызгал мне в лицо водой из графина, который стоял в изголовье.