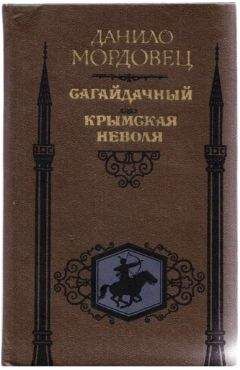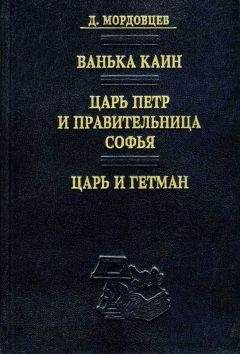— Послушайте меня, панове молодцы, вельможная громада! — закричал, подняв кверху шестопер, один из старших куренных атаманов с добрым худым лицом и добрыми, ласковыми черными глазами.
— Петр Конашевич говорит! Послушаем, хлопцы!
— Сагайдачного слушайте! Сагайдачный говорит!
— Пускай Петро Конашевич-Сагайдачный слово скажет! Он до черта мудрый!
— Слушайте, сто копанок чертей, вражьи дети! Буря голосов разом смолкла. Все ждали, что скажет Сагайдачный, которого очень уважали казаки.
— Панове молодцы, вельможная громада, — тихо начал Сагайдачный, — пускай сам его милость посол скажет, кому они как пишут и какие у них порядки: кому какая печать под грамотою, кому подпись... Вот и вы, здоровы будьте, коли часом кого приветаете, то не всех одинаково: коли батька старенького, либо мать-старуху, — то так, коли своего брата козака, — то инако, а коли дивчину — то еще иначе...
— Добре! Добре! — загудела громада.
— Отаман правду говорит...
— Где не правда! Разве ж мы дивчину так привитаем, как козака!
— Эге! Дивчину зараз — тее-то... женихаться... у пазуху тее... Посол несколько оправился. Он знаками поблагодарил Сагайдачного и поклонился громаде, которая начинала ему казаться страшною.
— Его милость атаман Сагайдачный истинно говорит, — начал он дрожащим голосом, — у нас, господа казаки, грамоты его пресветлого царского величества бывают разны; коли великий государь пишет королю польскому, либо цесарю римскому, либо султану турецкому, то печать под грамотою бывает большая, глухая, под кустодиею [Кустодия — специальная коробочка для хранения печатей (металлических, сургучных, восковых), привешенных на шелковых шнурках внизу древних грамот] с фигуры, и подпись дьячья живет на загибке, а кайма той грамоты и фигуры живут писаны золотом, и богословие и великого государя именование по речь и иных — писано живет золотом же, а дело — чернилы. Это — коли великий государь пишет равному себе государю. Коли не государю пишет, а, примером, воеводам, либо казакам донским, либо Запорожскому славному войску — так печать живет не глухая, а отворчата, и дьячьи подписи на ней не живет, а токмо титло царское все прописывается... А титло царское — великое дело...
Казаки молчали. Казалось, слова посла и его поклон усмирили горячие головы вольницы. Сагайдачный дал знак писарю, чтобы тот читал грамоту. Мазепа откашлялся в кулак и начал высокою нотою: — «Божиею милостию, от великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всеа Руссии самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных отчича, и дедича, и наследника, и государя, и обладателя...»
— Погоди, пан писарь, не так прочел, — остановил чтеца посол.
— Как не так? — удивился последний и глянул в грамоту.
— Так, государя и обладателя...
— Не обладателя, а облаадателя — облаадателя, — повторил посол, — два аза...
— На что два аза? И одного довольно, — изумлялся писарь.
— Да ты прочти: там два аза живет: облаадателя...
Писарь снова глянул в грамоту и пожал плечами.
— Так, два... Да на что оно два?
— Так от старины повелось, что в царском титле облаадателя с двумя азами писать... В сем азе великая сила сокровенна... Коли в царском титле, в именовании великого государя, пропискою один аз прилучится, и за ту прописку велено казнить безо всякия пощады и дьяка, и писца — дьяка бить батоги нещадно, а писцу ноздри рвать... А коли прилучится сия прописка в титле великого государя от иного государя либо короля, и та грамота не в грамоту, и за ту прописку великий государь войною велит итить на прописчика...
Писарь недоверчиво глянул на старшину.
— Читай, пане писаре, два аза, — внушительно сказал Сагайдачный, — разве ты не знаешь, что на нас, на матку нашу Украину, поднялись и ляхи, и ксендзы, и сам папа и шарпают Украину, мордуют наших попов и берут наши церкви за то только, что мы, православные, не приемлем их другого аза в «Верую», не говорим: «От отца и сына исходяща», а только «от отца...». Это и есть наш аз... Так и у них...
Все с глубоким вниманием слушали эту простую, всем вразумительную речь своего «мудрого дядьки», как иногда называли Сагайдачного. Московский же посол, по-видимому, проникался к нему все большим и большим уважением и удивлением.
И Мазепа остался доволен толкованием Сагайдачного. Так, так, утвердительно кивнул он головой и, снова опустив глаза на грамоту, продолжал:
— «...государя и облаадателя, войска Запорожского кошевому атаману, кому ныне ведати належит, и всему при нем будучему войску наше, царского величества, милостивое слово. В прошлых годех, божиим попущением и диаволовою гнюсною прелестию, бысть в Российском царстве смута и кроволитье великое и сотворися на Москве и во всем Московском государстве пакость велия: безбожный и богоненавистный прелестник, исчадие ада и сатанин внук, вор и чернокнижник и расстрига Гришка Отрепьев, извеся гнюсный язык свой, дерзновенно назвался царевичем Дмитрием, сыном государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руссии, и с помощью польских и литовских людей в наш престольный град Москву взбежал и на превысочайший Российского царствия престол аки пес вскочил, а за ним другие воры и злодеи, похищая царское имя, на тот превысочайший престол скакали ж. Вы же, войско Запорожское, по злым, смутным прелестям тех псов, не ведая их лукавства, им подлегли и на царское место им наскакать с польскими и литовскими людьми неведением своим помогали ж и всякое дурно Московскому государству чинили многажды. А ныне Московское государство божиею помощию от польских и литовских людей и от оных псов и самозванцев свободно, а мы, наше царское пресветлое величество, волею божиею и хотением и молением всея российския земли всех чинов людей, на превысочайший Российского царствия престол законно вступили и о сем вас, войско Запорожское, извествуем. Еще же вас, войско Запорожское, нашим, царского величества, словом наставляем, чтобы вы, памятуя бога, и души свои, и нашу православную крестьянскую веру и видя на нас, великом государе, и на всем нашем великом государстве божию милость и над врагами победу и одоление, от таковых, бывших в прошлых годех, непригожих дел отстали и снова кроворазлития в наших государствах не всчинали, тем души своей и тела не губили, во всем нам, великому государю, челом бы били и с нами в любопытстве и мире жили, а мы, великий государь, по своему царскому милостивому праву вас пожалуем таковым жалованьем, какова у вас и на уме нет. И тебе б, кошевому атаману, кому ныне ведати належит, и всему будучему при тебе войску ни на какие прелести не прельщатца, а также и иных атаманов и старшин, которые еще не во обращении с вами, к нашему царскому величеству в союз и любительство проводити и нашею, великого государя, нашего царского величества, милостию их обнаживати, чтоб быть им с вами, Запорожским войском, в совете и против неприятелей стоять вопче. А служба ваша у нас, великого государя, нашего царского величества, в забвении никогда не будет. Писан в государствия нашего дворе, в царствующем граде Москве, лета от создания мира 7122-е, месяца марта в 31 день».
Писарь кончил. Громада молчала; никто не смел первым подать голос насчет того, что было прочитано; надо было обсудить целою громадою, черною ли радою, или «атаманьем», или же всею чернью и старшиною вместе.
Между тем посол вынимал из тюков привезенные для войска царские подарки и картинно бросал их на разостланные кошмы, как бы нарочно дразня глаза казаков яркими цветами разных камок куфтерей, да камок кармазинов [Кармазин — старинное сукно малинового или темно-красного цвета], крушчатых и травных, камок адамашок, да бархату черленого кармазину, да бархату лазоревого, да бархату таусинного, да бархатов рытых, да портищ объярей золотных, да отласцев цветных, да косяков зуфей анбурских...
А сукон на казацкие шапки! И сукон красных, что огонь, и сукон шарлату [Шарлатный — багряный, пурпурный] черленого, и сукон багрецовых, и сукон настрафилю, и сукон лятчины...
— У! Матери его сто копанок чертей, какие ж славные сукна! — раздалось невольное восклицание; море голосов заревело и как бы затопило всю площадь...
На другой день в Сечи было необыкновенно шумно: происходило избрание нового кошевого и вместе с тем гетмана для предстоявшего морского похода. Последний гетман и кошевой, креатура и сторонник поляков, желавший вести казаков на помощь полякам в войне и с Москвою, тогда как казаки желали «погулять по морю» и Цареград «мушкетним димом окурить», — был до полусмерти избит киями со стороны этих рассвирепевших детей своих и утоплен в Днепре.
Волнение было страшное. Слышалась ужасная ругань, крики, то и дело звенели сабли — это уже пускали в ход самые сильные доводы — кулачные и сабельные удары, рукопашный бой и угрозы кого-то «утопить», кого-то «забить киями, як собаку», кому-то «кишки випустить»...