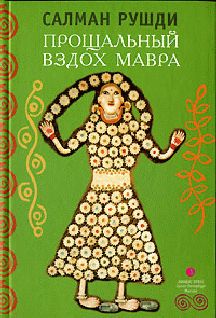— Оставайтесь, Друг народа, — сказал Оже. — Мы должны вознаградить вас как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам Друга народа.
Марат желчно улыбнулся.
— Медицина — наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже.
Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты Ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой. Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истощение, до которого довели Марата-Невидимку парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю.
Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, нисколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима:
Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца, четверо слуг проносили некую даму в желтой маске, а рядом с дамой в носилках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля… Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор, страна гор». Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу, Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорблял, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал:
— Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешал отлучаться с плантации?
— Тише, тише, — прервал Оже, — остановись, Биассу, тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так.
— Что не так? — с бешенством повторил тот, кого называли Биассу. — Рафаэля поймали, его схватили, и два десятка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол, обнажив плечо, заклеймили его каленым железом. Они поставили ему «Runaway» note 4. Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже, он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, беглый раб». Они тащили его по улице города ночью; толпа, лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала.
Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз Друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем пришельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека, было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или, наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз; у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых сжатых в кулаки руках, негодовал на негров. Молчание было общим. Потупя головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи.
Наконец, заговорил Оже:
— Да покарает их бог! Мы не знали, что Черный кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе благородной свободы. Четырнадцать лет тому назад в далеких саваннах, ночью, в палатке моего друга француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу тринадцати Соединенных штатов. Ее назвали «Декларацией независимости», в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателем некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло четырнадцать лет, и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова тринадцати штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко, на весь мир сказало о правах человека и гражданина! Франция кликнула на весь мир: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую ассамблею свободного народа. Мы покинули наши Красные и Белые горы, мы собрали золото с островов, деревень и поселков, нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных и черных людей, не будучи при этом плавучим кладбищем черных рабов, как в Манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли, что этот бриг «Санпарейль» только потому и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негрской плавучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на реи, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица. Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни, дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги, дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши желтые дамбланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада, и оба клада положили на трибуну вашей великой Национальной ассамблеи. Вы помните, это была ночь, вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, господин Траси, господин Грегуар, господин Ларошфуко, господин Корнейль, господин Петион, господин Сийэс, господин Лавуазье…
Марат вздрогнул, брови его сдвинулись. Он гневно закричал:
— Господин Лавуазье?.. Директор пороховых заводов! Королевский откупщик, химик-недоучка! Первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеною таможенных бойниц, налоговых бастионов!.. Ни пройти, ни проехать, ни взад, ни вперед без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру господину Лавуазье… Стены в тридцать три миллиона ливров, собранных у беднейших французов… Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы произносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табака и отравленного сидра?
Биассу, обращаясь к Оже, сказал:
— Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то…
— Ты разгорячен, Биассу, остановись! — возразил Оже. — Это не перекрашенный гражданин, это доктор Марат, Друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей.
Биассу низко поклонился, разводя руками. Оже продолжал:
— Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрыла меня, когда, указывая на трибуну английского гостя, господина Юнга, сидевшего с швейцарским гостем, господином Дюмоном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся, считая голос французского народа младенческим лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром!».
— Не помню, — сказал Марат, — кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить национальный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титры, их бумажные права на труд крестьян. Лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескания, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала Манежа огласилась бешеными аплодисментами парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка.
— Нет, это было не то собрание, — сказал Оже, сурово нахмурившись. — Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад — это наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад — это вырытые из земли и скопленные трудом и горем шесть миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: «Ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно». Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что «золото, привезенное черными и цветными людьми с острова Гаити из колонии святого Доминика, хотя и старой испанской чеканки, но золото доброго качества, и полного веса на шесть миллионов ливров». Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат! Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем мы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба здесь, в Париже! Неужели мало господину Ламету рабов и денег! У него за океаном девяносто три сахарных завода и шестнадцать кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить нашего Рафаэля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной ассамблеи? Разве на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саваннах? И не странно ли, гражданин Марат, — если только не ошибся Биассу, — не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат?