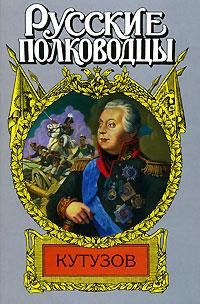– Ну и как? – сучит в нетерпении ножками в мягких бурках сынишка.
– С превеликим трудом, но выполнил Василий Федорович препоручение великого князя. То-то было радости в кремлевских палатах...
Ларион Матвеевич встает с кресел, щипцами снимает со свечек нагар. Выступают из полумрака лики с икон Пресвятые Богородицы и батюшкиного святого – Иллариона, епископа Меглинского; строго глядит – усы торчком – из вызолоченной бронзовой рамы Петр Великий.
– Батюшка! Скажи о чем-нибудь еще! – молит Миша.
Ларион Матвеевич утверждается в креслах, пухлая рука сама находит фарфоровую табакерку с лицеизображением государыни Екатерины, супруги преобразователя России. Со щелком отворяется крышка, щепоть доброго гамбургского табаку отправляется сперва в левую, затем в правую ноздрю. Орлиный батюшкин нос завостряется от щепотки, мальчик приготавливается слушать, как с мортирным звуком чихнет батюшка в батистовый с кружевами платок. Вот пухлое батюшкино лицо вновь распускается, белеет, выпуклые глаза открываются, приятная важность вновь исходит от него.
– А знаешь ли, Мишенька, что родственница наша называлась женой царя и великого князя Московского?
Нет, мальчик не знает об этом и весь обращается в слух.
– Когда разваливалась грозная Золотая Орда, осталось враждебное Руси Казанское царство. Наш государь и великий князь Иоанн Грозный желал вернуть балтийские земли, завоеванные шведом. Но как сие сделать? Пойдешь на запад – татары ударят тебе в спину! Надобно прежде завоевать Казань. Орешек сей, однако, оказался зело крепок. Удалось было Иоанну посадить на казанский стол верного ему Шиг-Али-хана. Но возмутились татары, скинули его и назвали главой своей астраханского царевича Едигера-Махмета. Он дал казанцам клятву быть неумолимым врагом России. И вот Иоанн Грозный самолично явился под стены Казани. Битвы происходили почти ежедневно. Русским удалось взорвать тайник, откуда татары запасались водой. Были подведены главные подкопы. Настал день решающего штурма. Было это[1] второго октября тысяча пятьсот пятьдесят второго года...
Миша спал с открытыми глазами: с грохотом рвались в подкопах бочки с порохом; в дыме пожарищ рушились стены Казанского кремля; шли с тяжелыми пищалями государевы стрельцы.
– Казанцы отчаянно защищались на улицах. – Ларион Матвеевич разволновался от собственного рассказа и грозно чертил перстом в воздухе. – Они удвоили усилия и почти вытеснили наших. Но вот сам Иоанн схватил знамя, стал в городских воротах и удержал бегущих. Царь Едигер был взят в плен, защитники его пали...
– И государь ослепил его, как Василия Темного? – ужасается мальчик.
– Нет, грозен и жесток, но справедлив был Иоанн Четвертый, – качает голой (пусть отдохнет от парика) головой Ларион Матвеевич. – Едигер был отправлен в Москву. Там он принял святое крещение под именем Симеона. Ему оставили титул царя. Жил он в Кремле, в особенном большом дворце. Имел боярина, чиновников и множество слуг. Понимал наш государь, сколь важно привязать Едигера-Симеона, склонить его на верность Руси. И стал подыскивать ему невесту. А у боярина московского Андрея Кутузова, нашего сородича, была дочь Мария. Всем хороша – и на личико нежна, и нравом кротка и послушлива. Вот в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году повенчал Иоанн Грозный Симеона с Марией и пожаловал им в отчину город Рузу. А далее вышло, как он задумал: сей Симеон всегда был преданным слугой Иоанна. Ходил с ним на хана крымского, сражался в войне Ливонской и Польской. А при учреждении опричнины и земщины Иоанн главой последней сделал Симеона. Так говорят наши летописи.
Про опричников Миша уже знает. А что такое земщина?
Умиленный любознательностью мальчика, Ларион Матвеевич даже утирает платочком уголки повлажневших глаз.
– Случилось то в декабре тысяча пятьсот шестьдесят четвертого года, – таинственно объясняет он. – Царь Иоанн Васильевич вместе с приближенными, стражей и женой Марьей Темрюковной внезапно исчезли из Москвы. Были с царем и Симеон с Марией. Они скрывались в монастырях и в конце концов остановились в Александровской слободе. Оттуда последовала грамота. В ней царь обвинил бояр в измене и даже выказал желание оставить престол. Когда же Москва приняла его требования, Иоанн учредил земщину и опричнину. Он начал жестокую расправу с крамольными боярами. Опричникам были отведены некоторые города, числом около двадцати. А в земщину, особое управление территорией, вошли остальные российские земли во главе с Москвой.
Ларион Матвеевич, увлекаясь рассказом, уже не замечает времени; еще меньше помнит об этом мальчик. Их возвращает к действительности бабушка.
– Хватит тебе Мишеньку-то своими страхами пужать! – выговаривает она сыну, появляясь в сопровождении дворовой мамки в кабинете. – Ведь сиротка! Некому его приголубить! А ты вместо ласки солдатскими побасенками его потчуешь!..
Она целует внука и просит:
– Пошли, Мишенька, спать. Бона и глазоньки твои ясные уже слипаются...
– Батюшка! Разреши еще послушать! Расскажи еще хоть столечко! – хнычет мальчик.
– Ладно... Только иди в постельку. Да сотвори молитву святому своему – архистратигу Михаилу. Когда ляжешь, приду и... – тут батюшка укорно смотрит на няньку, – вместо глупой мамкиной сказки расскажу еще какую бывальщину...
И снова, несмотря на ворчание доброй бабушки, листает мальчик – страница за страницей – увлекательную «Разумную книгу». Он засыпает, но и во сне длится рассказ отца – про диковинные земли, про воинские подвиги, про богатыря Гавриила...
– Дядюшка! Приехал дядюшка!..
Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов, двадцатипятилетний морской офицер, худощавый, с обветренным лицом – рот плотно сжат, желваки ходят под кожей – и мозолистыми ладонями. Он не из книг знает то, о чем рассказывает батюшка. Правду сказать, своим фрегатом правит Иван Лонгинович одним и тем же курсом: из Петербурга в Архангельск и обратно. Но и то в его лета немало – на небольшом паруснике аж через все Балтийское море, да вокруг Скандинавии, да через Белое море до устья Двины – путь опасный и долгий.
Миша бежит навстречу моряку, и тот подхватывает его сильными руками, прижимает к жесткому суконному мундиру, пахнущему табаком, океанским йодом, жженым порохом. Из бесчисленных карманов достаются подарки: кусок диковинного китового уса, черный блестящий медвежий коготь, прозрачный камень янтарь, а в нем навсегда застыла, распустив крылышки, желто-полосатая оса. И наконец, аглицкая медная игрушка: пушчонка, которая может ядра с копейку метать...
За столом, после первой чарки, Иван Лонгинович пускается в мореходные рассказы, пересыпая их волнующе-непонятными словами: «ганшпуг», «вымбовка», «квадрант», «юферс», «рубка», «галс», «крюйс-марс», «фокзейл», «шканцы», «ростры»...
– Всему свой черед, – смеется он, обнажая плотные белые зубы, в ответ на Мишины просьбы объяснить их значение. – Придет срок – узнаешь...
А после обеда, в кабинете, дымя трубкой, Иван Лонгинович слушает Лариона Матвеевича, опытного инженера, который в очередной раз собирается уезжать для возведения фортеций на юго-западные рубежи России...
– Меня назначили состоять при особе главного командира Кронштадта Захария Даниловича Мишукова, – сказал Иван Лонгинович однажды. – Теперь какое-то время я буду моряком сухопутным. И хочу взять Мишеньку к себе. А то, Ларион Матвеевич, без тебя как бы здешнее бабье царство его в красну девицу не обратило...
На том и порешили. К великому огорчению бабушки, засобиравшейся после того в свое имение Печатники под Москву...
Усадив мальчика рядом с собой, Иван Лонгинович читал ему «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»:
– «Не хватай первым блюдо и не дуй в жидкое, чтобы везде брызгало.
Не сопи, егда еси...»
Голенищев-Кутузов назидательно поднимает указательный палец с перстнем, украшенным серебряной Адамовой головой, и торжественно продолжает:
– «Когда что тебе предложат, то возьми часть из этого, протчее отдай другому.
Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай, не утирай губ рукою и не пей, пока пищи не проглотил...»
Он кладет жесткую моряцкую руку на стриженую голову воспитанника:
– Ну-ка, продолжай теперь сам, Мишенька!..
Мальчик читает бегло, только от усердия иногда глотает слова.
– «Не облизывай перстов и не грызи ногтей, но обрежь ногти.
Хлеба, приложа к груди, не ешь: ешь, что пред тобой лежит, а инде не хватай.
Над ествою не чавкай, как свинья... – Миша лукаво глядит на невозмутимо восседающего с неизменной трубкой моряка и, подмигнув заговорщически, продолжает: – и головы не чеши. Не проглотив куска, не говори.
Около своей талерки не делай забора из костей, корок хлеба и протчего...» – Миша поднимает от книжки голову и скороговоркой спрашивает: – Кстати, дядюшка, что у нас нынче на обед? Больно уж каша гречневая надоела... – И снова читает: – «Неприлично руками по столу везде колобродить, но смирно ести. А вилками и ножиком по талеркам, по скатерти или по блюду не чертить и не стучать, но должно смирно, прямо, а не избоченясь сидеть...»