— Чего, дядь Федь?
— Удружить можешь? — Федор погладил племяша по раскрасневшейся щеке. — Очень нужно.
— Чего удружить-то? — забавно скривился мальчишка.
— Слетай к Рябининым, скажи Анюте — в березках, жду.
— У-у! — Племянник состроил плаксивую рожицу. — Пока бегаю да пока говорю, всех по домам разгонят, не поиграюсь!
— Рано еще, не загонят, — успокоил Федор. — Успеешь, нагоняешься… Ландрину дам.
— Не врешь, дядь Федь? — На лице заиграла улыбка.
— Когда обманывал? — Федор мазнул по рожице растопыренной пятерней. — За мной не водится.
— Ну ладно, сбегаю, — великодушно согласился племяш. — А леденцы нынче?
— В укладке горстка осталась, приберег для тебя. Вечером получишь… Да не лезь на глаза Степану! Крадучись скажи, чтобы никто не услыхал. Уразумел? Как лазутчик.
— Как лазутчик? — обрадовался малец. — Уразумел! Заползу с огорода.
— Хочешь ползти — подползай. — Федор легонько дернул его за взмокший от пота вихор. — А лучше погоди у колодца. По воду выйдет, тут и передашь…
Племянник умчался, а Федор, сутулясь по фабричной привычке, потихоньку побрел к березовой рощице в излучине реки, подальше от деревни. Анюта, Анюта… Давно ли вместе бегали по этой же лужайке, с визгом и смехом догоняя друг друга? И за косички, бывало, дергал ее — до боли, до слез. Жаловалась… А нынче вот — второй такой девицы в округе не сыщешь. Поглядеть на нее хочется нестерпимо. Поглядеть еще разок, а там и в Нарву можно возвращаться. Чтобы душу себе не травить…
Один раз-то уже повстречались. Мельком. Только слез с телеги возле церкви, а тут и она — Анюта. Ненароком очутилась… Увидела, вспыхнула вся, так и потянулась к нему. Однако, убоявшись чужих глаз, даже не остановилась. И когда шепнул, чтобы вечером вышла на эады к огороду, потупилась, помотала головой: «Грех на страстной…»
Надо и вправду подаваться в Питер. Если Степан увезет ее, можно будет встречаться хоть каждое воскресенье. В большом городе кто узнает? Там, сказывают, гулянье на островах. Станут вместе гулять. Умных людей разыщут. Глаза раскроются на жизнь, не вечно же ей в серости пребывать. На ощупь жить негоже… Люди вон красный флаг не побоялись поднять. Теперь его не затопчет, лиха беда начало.
Федор завидовал тем, кто участвовал в демонстрации. О ней и на фабрике говорят. Не во весь, конечно, голос, между своими — шепотком, но вспоминают. И прокламация по рукам ходит. Большой, видать, грамотей писал, не все понятно. Но главное — живет написанное, будоражит душу.
Анюта прибежала, когда уже отчаялся дождаться, почти потемну. Федор видел, как вошла она в рощицу и нерешительно остановилась у нервых березок, беспомощно озираясь. Приложив ладонь к губам, Федор три раза крикнул кукушкой. Анюта улыбнулась и смело пошла на звук.
— А ежели тут волк? — засмеявшись, спросил Федор и попытался обнять ее.
— Волки не кукуют… А кукушечья пора еще не настала. — Анюта ловко увернулась от протянутых рук. — Не распускай грабли-то, рассержусь…
— Надолго пожаловала? — Федор все-таки ухватил ее за плечи и притянул к себе.
— А что, торопишься куда? — тихо спросила Анюта, не вырываясь больше из его объятий.
— Боюсь, убежишь сразу…
— Нет, — еще тише сказала Анюта, уткнувшись лицом в его грудь. — Господа звали девок хороводиться, наши в Редкино подались… А я, непутевая, к тебе!
— Отчего же непутевая? — Федор крепче обнял ее. — Соскучился, поди… Обойдутся Сахаровы без тебя.
— Коли скучал бы, приезжал почаще. — Анюта взглянула ему в глаза. — Разве так скучают? Раньше-то на все праздники бывал. А нонче и на рождество не показался.
— Какой с меня раньше спрос? Мальчишка на побегушках! А нынче машина не пускает.
— Ну бросай машину, бросай! — требовательно сказала Анюта. — Потолкуй с братом, глядишь, пособит землю арендовать. Другие-то кормятся землей, в своей деревне живут…
— То не жизнь. — Федор прикоснулся к ее волосам, пахнувшим скоромным маслом. Подумал: «Язвищенские девки лампадным мажутся, а у Рябининых не переводится коровье». — То не жизнь, — повторил вслух, — нищета собачья.
— Избаловался на фабрике! — Анюта капризно надула губы. — А братец сказывал, кто не глупой, от земли отбиваться не станет. Потолкуй с ним, потолкуй — хорошему научит.
— Уже толковали, — усмехнулся Федор.
— И что? — Анюта встрененулась.
— Не столковались. — Федор легонько тряхнул ее. — Меня в деревню манишь, а сама в Питер наладилась!
— Откуда взял? В голове не держала.
— Степан и говорил… Забираю, мол, к себе…
— Ой, неужто правда? — Анюта отстранилась, сложила руки на груди. — Зачем пугаешь? В дому об этом разговору не было… Неужто тихомолом от меня?
— А чего пугаться-то, дурочка? Станешь питерской барышней, плохо ли! Белый свет поглядишь.
— Не поеду от маменьки! — Анюта топнула ногой, прибранной в шнурованный сапожок городской выделки. — Напрасное братец затеял, никуда не поеду! Мне и здесь хорошо.
— М-мда, — Федор удрученно покачал головой. — А я размечтался. Думал, в городе нам способнее будет. Хотел ведь следом за тобой подаваться, А ты вон как — не поеду…
Анюта притихла — растерянная, не зная, как теперь отнестись к нежданному известию о предстоящем отъезде. Федор гладил ее по волосам и тоже молчад.
Из деревни, ослабленные расстоянием, доносились пьяные выкрики, обрывки протяжных песен. Язвищенцы «отгащивали», норовя побывать за столом в каждой избе; где сохранилась хоть капля браги. Нерепьются вконец, нагалдятся, наспорятся вдоволь, вспоминая старые обиды, потом и до драк дело дойдет — по обычаю. А завтра с утра станут мириться за опохмелкой, и снова нерепьются, и опять начнут волтузиться, в клочья раздирая праздничные рубахи. Только дня через три утихомирятся. Уныло подсчитают пропитое, порванное да изгаженное, отопьются квасом и — от темна до темна на пашне. Никакого просвета. И протеста никакого. От бога, мол, жизнь так поставлена, не нам и роптать. В домовых верят… Урядников и становых, правда, ненавидят. Эти царевы слуги к мужику близко, одного притесняют — всем видно. Но если о ком повыше начнешь речь, шарахаются словно от лешего: не замай власть! Одна у них забота — хлеб. Деревенский ли староста созовет сход, ненароком ли сойдутся на меже два-три мужика, разговор один и тот же: высокие подати, плохой урожай. Для разнообразия лишь кто-нибудь вспомнит, что корм скотине добывать негде, опять сенокосы у помещика покупать. И это жизнь? Да пропади она пропадом!
— Верно, что ли, поедешь? — недоверчиво спросила Анюта. — Не обманываешь?
— Вы что сегодня, сговорились? — осердился Федор. — Давеча племяша за тобой посылал, ландрину посулил, так он, шельмец, усумнился! Теперь ты… Когда ж такое бывало, чтоб неправду молол? Вспомни-ка!
— Ладно, ладно. — Анюта выставила щепоткой пальцы и шутливо ударила его по губам. — Правдивец… Много вас таких. Божатся, клянутся, а посля глаз не кажут, над девичьими слезами насмешки строят. В Петербурге, поди, и думать забудешь, что где-то я жива, сохну по тебе. Так, что ли?
— Не так, — тернеливо ответил Федор, почувствовав вдруг смертную скуку. — Вовсе не так…
Господи, да что же это? Рвался в Язвище. Маялся в надежде на встречу. Думал, будет хорошо, как раньше, уже оттого, что увидит ее, что встанут где-нибудь за деревней, тесно прижавшись, жарко дыша Друг другу в лицо. Ну пришла… А дальше? Разве откроешь ей, какими мыслями полна голова? Разве поймет?
Нет-нет, не надо…
Федор испугался неожиданно возникшему холодку в его чувствах к Анюте. И сказал с отчаянной решимосныо, будто заодно уговаривая себя:
— Будешь крепко в сердце держать, стало быть, ты — моя доля. Без тебя — не жизнь.
— И мне без тебя… И маменьке скажу, и братцу…
Анюта обхватила лицо Федора горячими маленькими ладонями и поцеловала.
Они встретились через десять лет… Степан Рябинин задуманное свершил: увез младшую сестру из деревни, пристроил горничной в богатый дом. А Федору вырваться в Санкт-Петербург, как о том мечтал, когда в последний раз приезжал в Язвище, оказалось не просто. Держал фабричный долг. Коли не двужильный, быстро не расплатишься…
И только через десять лет теплым июльским днем повстречал Анюту на Литейном. Шла под руку с каким-то франтом, по обличью приказчиком из модного магазина. На мгновение зацепившись взглядом за неказистую фигуру земляка, Анюта, красивая, одетая чисто, по-господски, с красным зонтиком в руке, прошла мимо, сделавши вид, что не узнала. А может, впрямь не узнала? У Федора к тому времени выросла борода, и очки стал носить, потративши зрение в темном ткацком цеху Кренгольмской мануфактуры.
Постоял, посмотрел ей во след. Яркий зонтик, как флаг, долго маячил над головами. Как флаг, но не флаг…

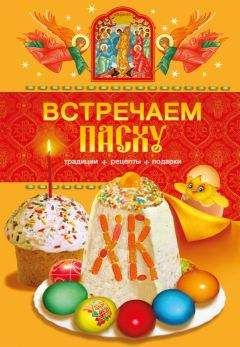
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)


