— Превосходно звучит! Свой со своими… Это как раз то, что нам теперь нужно. Я всегда твердил: надобно вырываться из узких рамок, террор должен стать народным! Только тогда — успех…
Много кое-чего говорил лысый студент. Не все Федору запомнилось — с дороги притомился, голова кругом. Но главное — студент не наврал, люди у них были в разных местах: работу и комнатушку на Обводном канале спроворила моментально. На другой же день повезли Федора на Резвый остров, свели с молодым конторщиком, тот, ни о чем не спрашивая, представил мастеру. И вечером стал Афанасьев к машине на фабрике Воронина. А Егора таким же манером пристроили к Палю; не успел парень опомниться — получил ткацкое место… Студент вообще-то хотел, чтоб в одну упряжку, на Резвоостровскую, говорил — удобнее вдвоем заводить знакомства с рабочими. Но Федор воспротивился: зелен братишка, пускай чуток пообтешется. Не хотел cpaзy, как головой в омут, толкать Егора на опасную стезю. Поселиться можно и вместе, жить вдвоем легче, но в остальном спешить не стоит: жизнь сама покажет, что к чему, а кому какая дорожка. Жизнь умнее самых умных людей, в этом, перечитав уже достаточно мудрых книг, Федор убедился.
Резвоостровская фабрика была, конечно, получше Кренгольма: поновее, порядку поболее. Но копнуть глубже — такая же каторга. И там остров, и здесь остров, хоть и на виду у Петербурга. И там люди голодные, и здесь живут впроголодь. Господин Воронин — промышленник оборотистый, копейку из народа выжимает — соленая водица капает. Сколько ни подступались с просьбами улучшить условия работы, ответ один: «Кому не нравится, ступайте за ворота!»
Федор всю зиму прожил без друзей. Лысый студент с Васильевского острова исчез неизвестно куда. Неделю спустя после первой встречи Федор постучался в тот самый дом. Открыл высокий старик, бледный и сухой, похожий на девицу в очках. Выслушал, поджав тонкие, вытянутые в ниточку губы, буркнул:
— Такого не проживает.
Федор, предполагая, что все окружение студента вовлечено в конспирацию, свойски подмигнул:
— Вы доложите — из Кренгольма человек. Они знают…
И тут спина старика выгнулась, как у мартовского кота на крыше, он дернул прокуренными усами и зашинел:
— Пш-шел вон, мерзавец. В полицию сдам. За своим знакомцем пойдеш-шь…
Так оборвалась единстведная дорожка, которая могла бы привести Афанасьева в подполье Народной Воли. Он ждал долго и терпеливо, что кто-нибудь найдет его и скажет, что делать дальше, как жить, к чему приложить силы. Ведь знали же друзья студента, где он обитает и работает, — сами ведь помогали устраиваться. Должны бы вспомнить о нем! Однако не вспомнили, никто не пришел. И молодой конторщик, когда встречались на фабрике, проходил мимо, будто видел первый раз, — чужой. Все чужие: народ в Петербурге куда как сдержан, пришлым со стороны открываются туго. Оставалось надеяться на счастливый случай. И не только надеяться — искать его, потому что Федор не хотел жить, уподобляясь траве.
Соседом по квартире оказался новгородский мужик — прядильщик с той же Резвоостровской фабрики. Злющий на вид, разговаривал, будто лаял. Ходили и одну смену, поздоровается и топает молча. А дорога хоть и не длинная, но поговорить можно бы о многом. Федор на мрачный вид новгородца — ноль внимания, откровенно о себе: в родительском доме места нет — надел скудный, ткачом сызмальства, повидал, дескать, виды. Рассказал, как кренгольмские, взбунтовавшись, вырвали у хозяев прибавку к жалованью.
— У нас не побунтуешь, царевы слуги под боком, враз сомнут, — услыхал в ответ.
Новгородец добрее не стал, но отмалчиваться бросил. Однажды вдруг пролаял:
— В Питер-то зачем прикатил? Коврижки на деревьях не растут.
— Так-то оно так, — согласился Федор, — а житье все же вольготнее. Идем вот, калякаем… Воробьи шебуршатся… А в Кренгольме от машины в казарму и обратно. Круговращение…
— Видал, слова какие знает! — фыркнул новгородец. — Грамотный, поди?
— Учился.
— Книжки читаешь?
— Ежели хорошие, читаю… Может, знаешь, где взять?
— Не знаю, — гавкнул прядильщик, но неред фабричными воротами, с трудом понижая свой лающий голос, утробно выдавил: — На рынке Александровском ищи… На книжном развале хорошие попадаются.
А к весне новгородец совсем оттаял. В начале апреля поманил Федора в уборную, шепнул:
— После смены загляни ко мне в угловую. Дело имеется…
Угловая комната, где обитал прядильщик с женою и тремя ребятишками, в квартире была самая большая. Федор вечером постучался, вошел — удивился. Вокруг дощатого стола на нерекрещенных ножках сидело несколько фабричных; помимо хозяина Федор знал еще троих — ткачи и таскальщик основ, разбитной парень, который частенько веселил мужиков в уборной похабными байками. Но сейчас веселья не замечалось, сидели трезвые, какие-то нахохлившиеся. Новгородец показал на скамейку — садись. Федор достал кисет, подсел к столу.
— Вот, значица, как… Ты парень сурьезный, мы тебя поглядели, — гулко сказал хозяин. — И грамотный тож…
— К чему клонишь, покамест не смекаю. — Федор запалил огниво, прикурил. — Но так скажу: ежели что тайное удумали, меня опасаться нечего. Не фискалил отродясь…
— Ничего такого тайного… Житья нету, терненье лопнуло. Задумали фабричному инспектору господину Давыдову челом бить…
— Другие-то пишут, быват, послабляют, — вставил ухмыляясь, разбитной таскальщик. — Глядишь, вырешат чего-нито в нашу пользу.
— На то они фабричная инспекция, — поддержал один из ткачей. — Может, не оставят милостью…
— Словом, помогай! — бухнул новгородец. — Мы и так и эдак крутили, ни шиша не выходит…
— Не могем бумагу составить.
— Не даются буковки…
Федор был разочарован. Он думал — кружок, а тут сочинители смиренной челобитной. По все равно дело. Позвали мужики, стало быть, вошел к ним в доверие, уже хорошо. Сходил в свою комнатушку за бумагой, отточил карандаш и помог написать толковое письмо, подсказывая, какие требования выдвигать наперед:
— Паровая машина имеется, от нее можно во всех фабричных помещениях устроить механические вентиляторы. Так и запишем… Воду пьем плохую, грязную. А надо бы пропускать через очистительный аппарат… Верно?
— Правда твоя, — согласился новгородец. — От этой воды брюхо болит… Колики бывают.
— Вот-вот. — Федор неторопливо писал. — А чтоб не болело, да и от разных несчастных случаев попросим при фабрике учредить аптеку…
— Аптеку? — безмерно удивился новгородец. — Ну, братец, лишку хватил!
— В самый раз, — заверил Афанасьев. — Аптеку и врачебную помощь… Глаза людям поберечь надобно. Ткань белая, солнце с южной стороны шибко падает, глаза слезятся. Раздражаются… Я ведь теперь — без очков ни туды ни сюды… Значит, запишем: повесить на окнах шторы…
— Эх, ма-а! — захохотал разбитной таскальщик от избытка радостных чувств. — А он говорит про тебя — умен, мол, пришлый, а я не верю — тихий шибко. А ты, брат, ушлый! Ишь удумал — шторы… Поди, только в господских домах бывают эти самые шторы!
— Пускай проще — занавески, — улыбнулся Федор, похищенный похвалой.
Письмо, подписанное многими резвоостровцами, было настолько ловко и убедительно составлено, что фабричный инспектор вынужден был вступить в нелегкие переговоры с хозяином. И что особенно удивило рабочих и служило впоследствии предметом бесконечных разговоров по дороге на фабрику и домой, в уборных и во время обеда, письмо принесло пользу: вентиляторы установили, открыли врачебный кабинет, воду стали очищать, занавески с южной стороны повесили…
Новгородец вскоре после того сказал Федору:
— Вижу, надобно тебе с тайными сходиться… Сам я в смуту не лезу, детишки у меня малые, сиротить не гоже. Но тебя, ежели хочешь, отведу… На Балтийском заводе есть знакомец, этот знает, где какие книжки… Хочешь?
— Спасибо, сосед, — только и ответил Афанасьев.
Так он попал в рабочий кружок «Социал-демократического общества», созданного студентами Технологического института. Делами в кружке заправлял Иван Иванович Тимофеев — слесарь с Балтийского, книгочей, золотая голова и серебряные руки. Именно он приохотил друзей ходить по воскресеньям на книжный развал Александровского базара, чтоб покопаться в старых журналах. Отбирали подходящее, переплетали в одинаковые синие обложки, составили библиотеку в тысячу томов. Тысяча! Это же такое богатство… И конспиративную квартиру для кружка на общественные средства нервым предложил снять Тимофеев. Тогда это было необычно, долго сомневались: стоит ли? А когда обрели комнату в неприметном домишке на Васильевском острове, между Большим и Средним проспектами, поняли, как это удобно.
Иван Иванович встретив Федора ласково:
— Слыхал о тебе хорошее. Земляк сказывал, у Воронова после вашей челобитной тебя зовут учителем жизни. Правда?

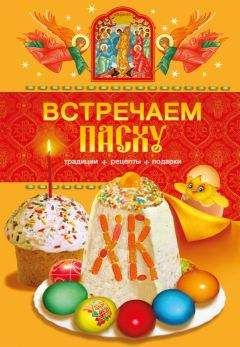
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)


