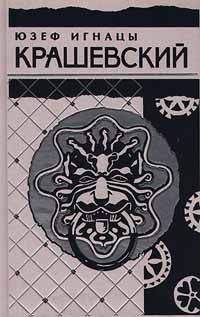эти любезности, эта лесть и нежность были не для него, но для почтения силы, которую он имел, могущества этих денег, такого нерушимого и страшного в руках злых и слабых людей. Это испугало его ради самого себя, ибо каждую минуту он сильнее замечал, как тяжело будет справиться с задачами жизни.
В такой день уже из-за одного обычая края постом обойтись не могло, хотя пан Валентин не терпел пьянок и угощений. Он должен был, однако же подать пару бутылок старого венгрина и пару бутылок не менее старого мёда.
Вечер был чудный, майский, гости сели на крыльце, на оживлённой беседе время проходило быстро; они, может, забавлялись бы дольше, если бы, наконец, молчаливое расположение хозяина не вынудило их к отъезду. Они чувствовали, что этот человек, должно быть, размышляет, может, борется с собой, вежливость велела уважать эту серьёзную грусть, хоть для обычных людей непонятную. Подкоморий, пригласив всех послезавтра на обедик, двинулся первый, за ним иные, и хотя пан Валентин приглашал гостеприимно на ужин, никто не остался. После отъезда гостей измученный Орбека вышел со своим достойным Нероном на крыльцо к саду.
Стук бричек исчез в отдалении, тишина весенней ночи, старая знакомая, окружала его снова. Перед ним, облитый серебристым светом луны, простирался тот старый сад, бормоча непонятную молитву, по которому столько лет, столько дней, столько одиноких вечеров проходил он, не догадываясь даже, что его когда-нибудь из этого зелёного угла вырвут на свет.
Теперь больше, чем когда-либо, он чувствовал ценность этих ушедших деней, той свободы, ненарушаемой ничем, той золотой тоски отшельника, на крыльях которой душа летит над миром!
Почти со слезами на глазах медленным шагом он спустился в свой сад. Там всё ему говорило каким-то знакомым, понятным голосом; и песня соловья, и шум деревьев, далёкое журчание воды, вращающей ил, и пастушеские песенки, и клекотание аистов, укладывающихся ко сну, сливались в какой-то настоящий ораториум земли, полный мистических звуков. Здесь и его душа могла слиться и соединиться с общим хором творения в согласной песне Богу и небесам. Много ли незабываемых тяжёлых минут он тут провёл, убаюканный этой общей гармонией к покою, какого свет дать не может?!
Помнил он те часы борьбы, когда его непослушная душа, обезумевшая от воспоминаний, рвалась из гнезда снова в свет, когда всё, чем привлекает жизнь, светлыми призраками проскальзывало перед ним, заманивая к себе… когда утомлённый, страждущий, он терял силы и оставался вросшим в этот кусок земли, который ему только серые дни тишины мог дать.
А теперь, когда ворота стояли открытыми настежь для входа, дорога устлана парчой, как страшно было переступить этот порог, созданный в дни раздумий, за которым кипел бой со светом, с собой, с людьми, страстью, ложью, легкомыслием.
Пан Валентин однажды уже пробегал по горящим углям иной жизни; молодой, полный доверия, а скорее, неопытности, на дне тех юношеских восторгов нашёл он горькую муть разочарования. Человеческое сердце, этот дорогой камень, такой светлый, растопилось в его ладони, как кусочек льда, в каплю мутной воды, в которую лилась его горькая слеза.
Он испробовал свет, но не насладился им, в его груди остались посыпанные пеплом горячие желания, он чувствовал себя неуверенным, слабым, знал почти наверняка, что его голова закружится, что будет несчастным.
Но жизнь, ах! эта жизнь, даже в страданиях имеет столько прелести!
И бедный Орбека румянился сам перед собой, видя, что тем ветром, что толкнёт его на волну, была горсть золота, издевательски брошенная ему судьбой.
Было что-то дьявольское в этом испытании, на какое он был выставлен, счастливый, спокойный или удовлетворённый, по крайней мере, онемелый, застывший… он чувствовал себя подхваченным фатальной силой из этого порта в море.
Несколько раз он повторил себе:
– Почему бы не отречься от всего и остаться так, как есть? Но человеческая слабость есть наиболее странной из софисток; она ему отвечала:
– Почему же, если это золото тебя обременяет, не использовать его и не распорядиться им лучше, чем смогли бы иные? Разбросать его, раздать, разложить мудро по шкафам.
Бедный заблуждался.
Среди этих мыслей проходил поздний вечер, уже была ночь; сад, облитый росой, в жемчужинах которой кое-где поблёскивал месяц, полный благоухания, тени и птичьих песен, казался ему раем, из которого должен быть изгнан.
Он припомнил свои прогулки, мечты и музыку, и живопись, и книжки.
– А это единственные удовольствия жизни, после которых нет пресыщения, не оставляют мути, вечно пьётся и желается, а душа выходит чистой, всё более прозрачной, всё более сильной, как бы подготовленная к лучшему свету.
Он сорвал ветку берёзы, которая облила его холодными слезами ночи и дождём увядших цветочков, и побрёл к своему клавикорду На нём лежала любимая соната Бетховена, одна из тех его последних, вдохновлённых невыразимой борьбой чувств и мыслей в хаотичном бою, болью, взывающей к Богу. Была в ней вся жизнь человека. Allegro его молодости, свежее и благоухающее, largo влюблённости, менуэт пира и свадьбы, потом, словно в насмешку, отрывок похоронного марша и финал, полный грёз и тоски старости, хотя полный ещё недогоревшей жизни.
Для Орбеки эта соната была почти всей его историей, воспетой ему ясней, чем он сам мог её рассказать; сел и пальцы сами побежали по клавишам с той немилосердной энергией, какую имеет человек только в избранные минуты жизни, чувствуя в себе возрастающую силу, как бы чем-то высшим над собой, чем-то лучше самого себя.
А когда он закончил играть, только тогда заметил, что по распалённому его лицу ручьём текли слёзы, горячие слёзы, каких давно не ронял. Он омывал ими ту дорогу, которую должен был пройти, которая манила его и была для него страшной, искушала его и пугала, манила и устрашала одновременно.
Но уже старый вчерашний человек уступал в его груди место новому незнакомцу. О! Унижающе слабым есть человек, даже когда знает это своё несчастье; внутренние влияния как тараном разбивают камни стен его убеждений, рушится то, что должно было охранять, плачет над руиной и уступает победителю.
С ужасом пан Валентин сам заметил перемену, какая в нём произошла; не был собой, чувствуя ещё, что им быть перестал. Мечтал, желал, был опьянён и не владел своей волей.
Все эти мечты, которые раньше не смели переступить порога и исчезали перед его холодным лицом, теперь, осмелевшие, обнаглевшие, насмешливые сидели у него на груди и голове, играли связанным, надевали на него путы и тащили.
Мечтал, а мечта убивает, отравляет и опьяняет. Напрасно он пытался оттолкнуть призрак, не имел в себе той