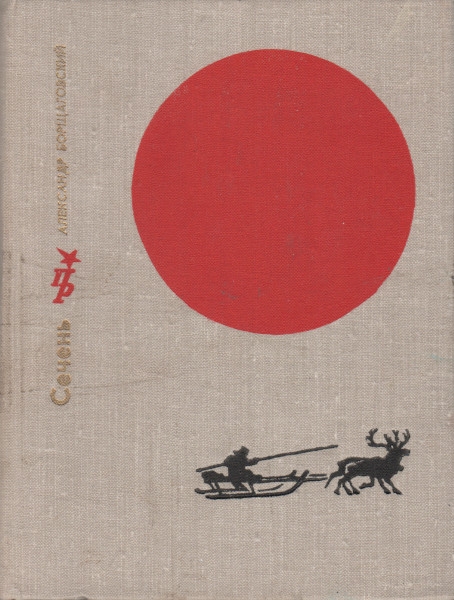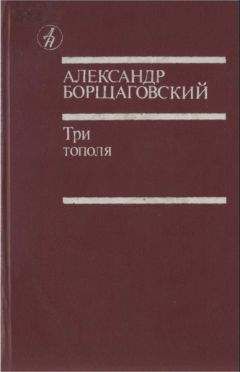за спину. — Еще мгновение, и я афропи́рую вас, но прежде выслушайте верного слугу престола. Взыскуете со-циа-лиз-ма? Скольких страдальцев я выслушал на этом месте: социализм, уверяли они, есть божие царство на земле. Превосходно! Коли господь приведет, я согласен, согласен, если это не помешает народам иметь царей! Вы, вероятно, знаете, что Англия — свободнейшая страна мира, однако же и там, в Альбионе, чтут короля.
— Господин хороший, — сказал Бабушкин, подавая ему подорожные, — распорядитесь насчет лошадей.
— Будут лошадки! Я с вас и прогонных не возьму, при одном условии. — Он заговорил тихо и проникновенно: — В Якутске, в этом Содоме и Гоморре Севера, вы подкатываете к дому господина Булатова, всемилостивейшего губернатора, и извещаете его, что станционный смотритель Эверестов считает его свиньей в ермолке, пакостником, прелюбодеем... — Он загибал пальцы с крупными, литыми ногтями; в его закосивших вдруг глазах проступило безумие. — Осквернителем веры, скотиной, псом шелудивым, вонючей требухой...
— Примет ли он нас? — сказал, усмехнувшись, Михаил.
— Ломитесь в дом! — приказал станционный смотритель. — Отныне позволено‑с! — Он протянул им газету и рухнул на колени перед портретом Николая II, висевшим на стене против зерца́ла. — Августейший монарх даровал России свободу... Манифест, господа! — Лицо исказилось гримасой умиления. — Государь даровал свободы, а скотина Булатов отнял у меня юную супругу, вверг ее в геенну разврата... Оставил ее в Якутске, в то время как я, я... вы видите, как я унижен...
Ссыльные уже не слышали его.
— Вслух читайте, — попросил старик Машу. — Люблю про мирское слушать: Гоголя, помнится, вы хорошо читали.
— «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей, великою и тяжелою скорбью преисполняют сердце наше» [1] . — Она читала без выражения, будто все ждала чего-то и не верила, ждала и боялась, и чтение выходило неровное и этим будоражило старика. — «Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль...»
— Аллилуя-а... аллилуя!.. — пропел старик и спохватился: — Не буду, не буду — читайте, одолжите старика.
— «...От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы всероссийской...»
— Ах, касатик! — вновь не удержался Петр Михайлович. — «Нестроение народное»!.. Знаешь ли ты, Михаил, что есть нестроение? Не знаешь, кавказец несчастный: а ведь это, проще говоря, беда, неустройство, беспорядок...
— «...Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга...»
Заглядывая из-под руки Маши, Бабушкин быстро дочитал манифест и возвратился к тем строкам, где царь обещает даровать населению неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.
— «...Призываем всех верных сынов России, — дочитывала Маша, — вспомнить долг свой перед родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напречь все силы в восстановлению тишины и мира на родной земле...»
Они позабыли о чиновнике, который поднялся с коленей и в благоговейном молчании встал у портрета государя. Петр Михайлович взял у Маши газету, устроил ее на коленях и ощупал рукой карман:
— Куда-то очки запропастились. Боюсь ослепнуть от щедрот монарших.
— Золотые слова изволите говорить! — благодарно откликнулся смотритель. — Осмелюсь предложить вам чаю, господа.
— Нам бы лошадей, почтеннейший, — мягко попросил Бабушкин, хотя каждая в нем жилка играла нетерпением, неистово рвалась вперед, к неведомому. — Годы ямщицкого колокольчика не слыхали.
— Чаю! Чаю! — капризно повторил смотритель. — Отпразднуем, господа, великий миг!
Бабушкин стоял, как на распутье, среди избы, с шарфом в руках, но Петр Михайлович решительно сказал:
— Дудки, Иван Васильевич! Чаевничать будем: нынче и государь присмирел, а вы нами диктаторствовать хотите. Мы с господином Эверестовым, — он воздел глаза к темному, из старых плах, потолку, — люди старого закала, нам без чаю погибель.
Смотритель растрогался, уразумев, что перед ним люди приличные, хотя из четырех проезжих только двое — черноглазая женщина в бархатной истертой шубке и седой старик в суконной блузе распояской — подходили под этот сорт. Русоголовый усатый мужчина, скорее всего, из непочтительных разночинцев, а то и мужланов; сбросив армяк и полушубок, он сунул руки в карманы серых тесных брюк, стянутых в талии широченным охотничьим поясом. Он был бы даже приятен с лица, если бы не выражение крайнего упрямства, самонадеянного умысла во взгляде нельстивых глаз. Четвертый — в синей сатиновой косоворотке и мятом, в заплатах, пиджаке — походил на мастерового или обнищавшего мещанина. Однако бог послал Эверестову именно их, и, расщедрясь, он достал из своих запасов початую бутылку шустовского коньяка.
Разговор за столом не складывался. Бабушкин, отхлебнув чаю, поднялся и мерял станционную избу неспокойным шагом.
— Радости в вас мало, — поражался чиновник. — Экие вы скучные какие! Русские ли вы, господа, или язычники?
— Русские, русские, — благодушно басил Петр Михайлович. — Даже и кавказец наш, Михаил, христианин.
— Такое трех престольных праздников стоит! За это грех не выпить! — Он потянулся рюмкой к Бабушкину.
— Не трогайте его, — посоветовал Петр Михайлович. — На нем грехов не перечесть, пусть он и этот возьмет на душу.
Эверестов уставился на Бабушкина, смущенный мыслью, что, может, он и не политический, а из душегубцев, и нет ему дела до гражданских свобод и монаршего промысла. Наступило принужденное молчание: слышались быстрые шаги Бабушкина, прихлебывание чая из блюдца, приглушенный нерусский говор за стеной. Бабушкин вдруг вплотную приблизился к станционному смотрителю, и Эверестов тоскливо подумал, что хорошо бы сейчас не сидеть, а стоять на ногах, отступить к стене, иметь свободу для маневра, но этот, отчаянный, уже надвинулся на него.
— Послушайте, хороший, превосходный даже господин, — сказал Бабушкин. — Нам невозможно оставаться здесь ни суток, ни даже одной ночи. — Он легко взял Эверестова под сухой дрогнувший локоть, и чиновник с готовностью поднялся. — В Россию! В Россию, господин Эверестов!
Смотритель с облегчением покинул горницу, что-то негромко приказал прислуге, звякнула крюком дверь черного крыльца. Трое ссыльных, как сговорясь, отодвинули недопитые чашки.
— Многого мы не знаем. — Старик сложил руки ладонь к ладони и держал их близко к губам.