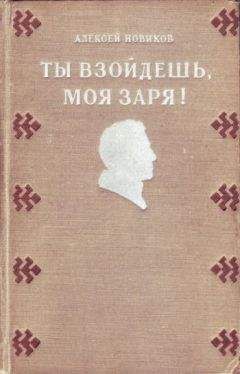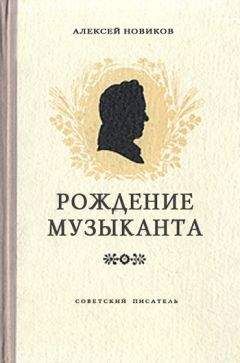Ознакомительная версия.
– Не слишком ли дорогой расплата будет, если Николай Иванович заполонит альбом своими вальсами?
– А мы на что? Слушай, Глинка, давай свалим хлопоты Павлищеву и удовольствуемся лаврами.
– Но ты, надеюсь, с типографщиками и граверами беседовал?
– Помилуй! Когда же? – возмутился Фирс. – И так не на все рауты и балы успеваю.
Зимний сезон был в разгаре. Все предприятие с альбомом опять остановилось. А потом Голицын и вовсе исчез из Петербурга. Отправляясь в армию, действующую против турок, Фирс сменил мундир камер-юнкера на гвардейскую форму – и был таков. Тогда явился Николай Иванович Павлищев.
Гений воображения, дремавший доселе над абстрактными прожектами, теперь простер мощные крылья над скромным музыкальным альбомом. Глинка скоро понял, что музыке не будет прибытку от Николая Ивановича.
Он передал для альбома свои романсы «Память сердца» и «Скажи, зачем…» Именно с этими пьесами решил сочинитель явиться перед публикой.
– Танцевальной музыки добавить надо, – решительно заявил Павлищев и самолично отобрал из архива Глинки несколько танцевальных пьес, нашел даже совсем забытую итальянскую арию.
Музыкант не возражал. Чем ближе был к изданию альбом, тем больше охладевал он к предприятию.
А слухи о задуманном альбоме достигли до бывшего сожителя Глинки, элегического поэта Александра Яковлевича Римского-Корсака.
– Полно сердиться, Мимоза! – сказал он, входя в комнату, и великодушно протянул руку.
– Да я, пожалуй, не сержусь, – кротко отвечал Глинка, – хотя распорядился ты моей поэмой воровски.
– Только благодаря мне твой «Альсанд» и увидел свет на страницах «Славянина».
– И по счастью никто не обратил на него внимания.
– Но ты приобщен ныне к кругу поэтов! – воскликнул Корсак.
– А худой мир лучше доброй ссоры, – заключил Глинка.
– По дружбе, – объяснил гость, – я снова хочу тебе помочь. Слышал я недавно твою «Ноченьку». Что же ты к Дельвигу переметнулся? Неужто я не могу подкинуть тебе любых стихов?
Поэт порылся в карманах и, найдя нужный листок, стал читать:
Ночь осенняя, любезная,
Ночь осенняя, хоть глаз коли…
– Вот тебе ночь, по крайней мере с настроением! А то Дельвиг!.. Дельвигу теперь тоже достанется. Пушкина со всей его компанией на чем свет честят. Ты сатиру на Онегина в «Северной пчеле» читал?
– А Пушкин?
– Удрал из Петербурга, поминай, как звали.
– Новая его поэма не вышла в свет?
– Какая поэма?
– О полтавской битве, – объяснил Глинка.
– Не знаю. Пушкину самому дай бог баталию выдержать. Ну, каково тебе моя «Ночь» пришлась?
– Положи на стол. Подумаю.
А думать пришлось вовсе не над стихами. «Северная пчела» с беспримерной наглостью выступила против Пушкина. Было похоже, что кто-то спустил с цепи Фаддея Булгарина. За бешеным его лаем слышалась чья-то глухая угроза. Могущественный враг грозил расправой не только Пушкину. В той же «Северной пчеле» Глинка прочел 19 марта 1829 года краткое сообщение о событиях в Тегеране:
«Напрасно сам шах в сопровождении генерал-губернатора тегеранского пришел с значительной силою для удержания и рассеяния мятежников. Сие было слишком поздно. Грибоедов и его свита уже сделались жертвами убийц. Шах и весь двор приведены сим в величайшее смущение…».
До Петербурга доходили противоречивые слухи. «Северная пчела», послушная указаниям свыше, винила в убийстве каких-то безыменных мятежников. В городе глухо говорили о тайной интриге. Истинные ее вдохновители были известны немногим посвященным. Русское правительство предательски обрекло на смерть беззащитного посла, лишив его охраны. Аглицкий спрут, распоряжавшийся в Персии, жадно протянул щупальцы к русскому дипломату, осмелившемуся на борьбу с чудовищем. Ножи убийц завершили дело.
До жителей Петербурга доходили лишь смутные слухи о том, что произошло в Тегеране. Друзья погибшего автора «Горя от ума», от которых не скрывал своих мрачных предвидений Грибоедов, тщетно пытались проникнуть в зловещую тайну.
Глинке вспомнился последний день, проведенный у Грибоедова. «Какая страшная участь!» – восклицает он и вновь слышит те слова, которыми ответил ему поэт-комедиограф: «Скажите лучше: какая гнусная действительность!»
Вольно течет широкая река, и вдруг наперерез ей встают острые утесы. Легко перекатываются через вражьи заставы светлые волны, только чуть вскипая от гнева. А по руслу громоздятся новые скалы, смыкаясь неприступной твердыней. Тогда яростно вздымается река, с ревом бросается в тесное ущелье и летит по скату с неудержимой быстротой. Кажется, что земля содрогается от грохота и солнце меркнет в облаках мокрого тумана…
Поездку в Финляндию, на водопады, задумал Дельвиг. Иматра превзошла все ожидания путешественников. Даже дамы подолгу сидели на прибрежных скалах, вслушиваясь в симфонию борения первобытных стихий. Анна Петровна Керн сидела неподвижно. Софья Михайловна склонялась над пучиной, чем доставила Дельвигу немало тревожных минут.
– Сюда, сюда! – громко закричал Орест Сомов, делая знаки спутникам.
На одной из скал была ясно высечена подпись общего знакомца Евгения Баратынского.
– Не ожидал, что Евгений похитит у меня пальму первенства в открытии здешних мест, – разочарованно сказал Дельвиг.
Вооружась ножом, он стал высекать на скале собственное имя. Все последовали его примеру.
Софья Михайловна к чему-то прислушивалась.
– Неужто вы не слышите, господа? – оказала она. – Эти грозные звуки и манят, и потрясают, и неумолимо властвуют над человеком. Разве это не музыка?
– Первобытный хаос и только! – не согласился Сомов. – Надо иметь очень романтическое воображение, чтобы вложить какой-либо смысл в эту какофонию природы. Михаил Иванович, – обратился он к Глинке, – ваше мнение?
Глинка за шумом водопада не расслышал вопроса. Он тоже высекал свою подпись на камне, на котором снова предстало перед ним имя поэта, вдохновившего его на первое «Разуверение». Но в том «Разуверении» было столько веры в будущее! А теперь он бродит по неведомым местам, полный несвершенных замыслов. От грохота водопада закружилась голова. Глинка провел рукой по лбу и с удивлением почувствовал: лицо, волосы, даже одежда пропитались мокрым туманом. Откуда-то изнутри поднимался озноб и обдавал то холодом, то жаром. Он сделал над собой усилие и подошел к дамам.
– Чем кончился музыкальный спор?
– Как всегда, ничем. Таково, должно быть, и есть назначение всех споров, – ответила Софья Михайловна.
– Особенно если пускаются в ход доводы романтизма, – продолжал Глинка, – а им противостоят такие трезвые критики, как Орест Михайлович.
– Но будучи сам приверженцем романтизма, – перебил Сомов, – я не вижу смысла в хаосе.
– Вы совершенно правы, – ответил Глинка, – наши романтики нередко подменяют какофонией недостающую мысль. В распоряжении музыкантов, кстати, есть для того счастливые средства – трубы и барабаны.
Завязался спор, который продолжался и за обедом в убогой гостинице. Наплыв гостей вызвал удивление и растерянность у старого хозяина. К ужину не нашлось ни хлеба, ни масла, ни яиц. Лишь вяленая рыба была представлена в изобилии. За окном раздавался монотонный припев ночного сторожа: «Спите, добрые люди, я вас не разбужу».
Но никто не собирался спать. Дельвиг занимал спутников рассказами о таинственных историях, которые могли бы случиться здесь, в суровых лесах или на скале, что высилась над водопадом и словно была предназначена для ищущих смерти.
Утром Михаил Глинка первый встретил солнце. Он вовсе не смыкал глаз. Проклятая лихорадка снова дала о себе знать. Однако молодой музыкант торопил спутников вернуться к водопаду.
Все снова рассыпались между прибрежных скал.
Река все так же рвалась в ущелье, а поодаль безмятежно разливалось тихое озеро. Но горе тому, кто прельстится сладостным покоем! Там, где нет борения, неминуемо слабеют ненужные силы. Там, где нет воли к действию, бесплодна и самая страстная мысль.
Молодой музыкант стоял над водопадом и размышлял. Картины природы, раскинувшиеся перед ним, могли стать поводом для размышлений о судьбе артиста. Это вовсе не значит, конечно, что в искусстве следует копировать природу. Но никогда не будет творцом тот, кто, убоясь борьбы, стремится к покою…
– Прощай же, вольная и гордая стихия, – тихо сказал Глинка.
Сказал и смутился: как бы не заметил кто-нибудь его романтического порыва… Впрочем, стоял молодой музыкант вовсе не в романтической позе, а на почтительном расстоянии от бездны. Мокрый туман, в котором он успел ранее искупаться, оказался союзником лихорадки. Она дала о себе знать жестоким припадком на обратном пути.
Дорога вилась среди суровых скал, открывая взорам то мрачную пропасть, то овраг, щедро усыпанный цветами, а с боков уже надвигались новые утесы. Между угрюмых лесов вдруг открывалось светлое озеро, потом дорога крутилась над пропастью и снова уходила в бесконечный лес. Линейка, на которой ехал Дельвиг с дамами, укатила далеко вперед. Глинка лежал в тележке, рядом сидел Орест Сомов. Журналист был на этот раз неразговорчив. Музыкант, спасаясь от озноба, кутался в пальто. Ничто не нарушало величественного безмолвия суровой природы.
Ознакомительная версия.