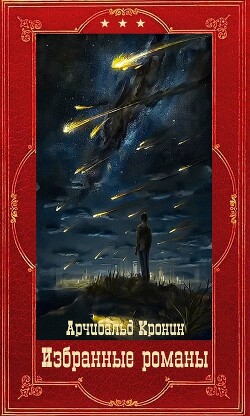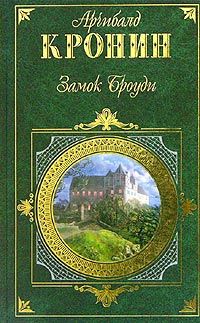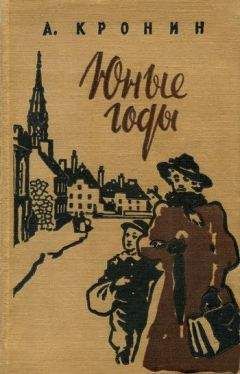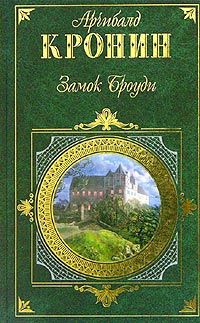Внезапно она наклонилась ко мне.
— Дай-ка мне твою чашку, попробую узнать, не улыбнется ли тебе счастье — а вдруг тебя ждет что-то радостное.
Она медленно вертела пустую чашку, зажав сигарету в углу рта, чтобы дым не ел глаза, и внимательно рассматривала чаинки на дне. Она отлично разбиралась в расположении чаинок, разгадывала сны, читала по линиям рук, а также могла предсказать судьбу по картам.
— Оч… очень интересно. Твой цвет — зеленый… нежного оттенка. Надо держаться ближе к полям и лесам — там тебя ждет удача. Но только не задерживайся там допоздна, пока не будешь старше. По отношению к слабому полу ты горяч и ревнив. Ага! Это еще что такое? Да, конечно! Ты встретишь прелестную брюнетку, хорошо сложенную, когда тебе исполнится двадцать один год. — Она подняла голову. — Ну как, настроение не стало лучше?
— Боюсь, что нет, миссис Босомли.
— Это будет женщина необыкновенно нежная… испанского типа… рыжие — ее слабость.
Но я лишь покраснел. Миссис Босомли поставила чашку на стол и рассмеялась.
— О господи, дорогой мой мальчик, у меня вся душа изболелась за тебя. Ну что тебя так мучает?
— Да ничего особенного, — вяло ответил я.
— Вижу, из тебя ничего не вытянешь. — Она собрала посуду со стола и поднялась. — Почему бы тебе не поговорить по душам с твоим дедушкой? — В тоне ее прозвучала слегка застенчивая нотка: она, видимо, всегда была чрезвычайно высокого мнения о нем. — Пусть о нем говорят, что угодно, но мистер Гау замечательный человек.
К несчастью, я уже не разделял ее точки зрения. Я по-прежнему любил дедушку, но те дни, когда я прибегал к нему со всеми своими детскими горестями, давно прошли. К тому же я приобрел способность прятать, точно улитка, свои печали и в стоическом одиночестве сражаться с ними, подобно тому, как борется моллюск со своим жемчужным раздражителем. Я даже не мог заставить себя поговорить с мамой, которая с тревогой и огорчением смотрела на меня: быть может, я понимал, что словами делу не поможешь.
Однако миссис Босомли явно «перекинулась словцом» с дедушкой, так как на следующий же день он отвел меня в сторону и заставил рассказать, в чем дело.
Я долго буду помнить выражение, появившееся на его лице, пока он слушал меня, — глаза у него затуманились, и он сощурился, точно от боли. Он немало в своей жизни нагрешил, наделал уйму глупостей и нередко сходил с пути истинного, но мелочная скаредность была чужда ему, — он просто этого не понимал. С поистине величественным видом он взял шляпу и палку.
— Пойдем, дружок. Повидаемся с этим твоим мистером Рейдом.
Мне не очень хотелось, чтобы меня видели на улице с дедушкой — некоторые странности в его поведении немало смущали меня — однако я был слишком удручен, чтобы противиться его желанию: и хотя мне казалось, что ничего путного из его вмешательства не выйдет, мы направились с ним по улицам, окутанным послеполуденной субботней тишиной, к дому, где жил Рейд.
Большинство преподавателей Академической школы занимало благопристойные виллы в «хороших» районах — на Ноксхилле и на Драмбакской дороге. Но Джейсон Рейд жил в высоком грязном доме близ старого Веннела — в мало презентабельной части города, где ютились главным образом поляки, рабочие-докеры и прочие скромные труженики. Задняя комната его квартирки выходила на прокопченный дворик, а если открыть окно другой его комнаты на фасадной стороне, всегда мутное, так как его редко протирали, можно было любоваться блестящими медными шарами перед зданием Ливенфордского общества взаимопомощи и интересной процессией, которая каждый вечер вливалась в вертящиеся двери портовой таверны. Рейд любил свое обиталище за ту полную свободу действий, которую оно ему давало, а также за то, что оно являлось как бы вызовом обывателям и утверждало его социалистические взгляды.
Рейд пришел в Академическую школу два года назад на смену мистеру Дугласу, когда того назначили директором Ардфилланской средней школы, и не скрывал, что он тут временно — он не любил подолгу задерживаться на одном месте, — да и у ректора Джейсон явно не вызывал особого восхищения: слишком уж он небрежно одевался, преподавал не как все и отличался потрясающей непочтительностью. И все-таки Джейсон продолжал у нас работать. Он был блестящий и оригинальный педагог — даже ректору пришлось признать это; а главное, помимо всяких наук, он мог преподавать — что было особенно удобно — английский язык в старших классах: у него была степень магистра искусств и бакалавра наук, которые он получил в Тринити-колледже. Когда я много лет спустя спросил Рейда, почему он так долго торчал в Ливенфорде, этой богом забытой дыре, он ответил со своей обычной улыбкой, от которой еще больше сплющивался его нос и вылезали бычьи глаза:
— А мне там было удобно: ломбард под боком.
Он всегда был дерзок на язык — его вынудили к тому жизненные обстоятельства. Он был сыном священника из Северной Ирландии, и, хотя его лицо было несколько изуродовано, родные предназначали его в церковнослужители; однако, не проучившись и половины положенного срока, он подпал под влияние Гексли и пришел к отрицанию «Книги бытия». Семья отказалась от него; об этом Рейд никогда не говорил, но я чувствовал, что тот бунт, который он поднял против своей среды, как раз и побудил его надеть на себя маску безразличия и презрения к условностям; это сказалось даже на его методах преподавания. Когда он впервые появился у нас в классе на уроке английского языка, мы, по заведенному мистером Дугласом обычаю, отвечая урок, выходили из-за парты и излагали свою точку зрения на заданную тему, а заданной темой в тот день было «Что я буду делать в следующее воскресенье». Рейд слушал, развалясь на стуле и положив ноги на кафедру, — в весьма необычной для преподавателя позе, — а мы все держались в высшей степени благонравно и чинно. Послушав немного, он задумчиво произнес:
— Гм, а что буду делать в следующее воскресенье я? Наверное, валяться в постели и пить пиво.
Несмотря на всю свою браваду, это был несчастный и одинокий человек. Он держался в стороне от остальных преподавателей, так как у него не было с ними ничего общего. Время от времени он посещал собрания местного Фабианского общества, [13] но все остальные ливенфордские клубы, в том числе и знаменитый «Клуб философов», он презирал, называя их «забегаловками для пьяниц». Женщинами он тоже, казалось, не интересовался. Ни разу в ту пору я не видел, чтобы он разговаривал с кем-нибудь из них или шел с ними по улице. Однако в силу своей любви к музыке он подружился с миссис Кэйс и ее маленьким кружком. Дом на Синклер-драйв был единственным, который он, по-видимому, с удовольствием посещал.
Возможно, Рейд решил, что у меня есть задатки ученого, но скорее всего присущие нам обоим странности побудили его заинтересоваться мной. Нередко по воскресным утрам он приглашал меня к себе на завтрак и до отвала кормил чудесными жареными сосисками. Он не отличался особой разговорчивостью и не любил проявлять свои чувства. Наоборот, он издевался над эмоциональными людьми. У него был строгий литературный вкус, и он прилагал немало усилии, чтобы выбить из меня страсть к цветистым выражениям. Он любил Аддисона, Локка, Хэзлита и Монтеня. Преклонялся перед Шиллером. Говоря о своей замкнутой жизни в этом маленьком мещанском городке, он приводил следующее его изречение: «Единственные отношения с людьми, о которых человек никогда не жалеет, это война». Однако взгляд его больших глаз был отнюдь не воинственным, а дружелюбным.
Поднимаясь по узкой лестнице, темной и грязной, мы с дедушкой услышали музыку, доносившуюся из квартиры Рейда.
Дедушка постучал палкой в дверь. Джейсон откликнулся:
— Войдите.
Джейсон отдыхал в плетеном кресле у окна — без пиджака, брюки заправлены в толстые носки; ноги, все еще обутые в черные велосипедные туфли на шнуровке, покоятся на столе, где стоит стакан с пенящейся влагой и играет граммофон с длинной трубой в виде цветка. Дедушка стал было учтиво рекомендоваться ему, но Джейсон предостерегающим жестом заставил его умолкнуть и указал нам на стулья. Граммофон доиграл пластинку, хозяин вскочил и перевернул ее, а потом плюхнулся обратно в свое плетеное кресло. Время от времени он вытирал лоб и отпивал глоток из стакана. Я понял, что он только вернулся из своей очередной сумасшедшей поездки на велосипеде: иногда, чувствуя потребность в движении, он садился на велосипед и мчался с горы на гору, опустив голову, бешено работая ногами, — со лба его ручьем лил пот, а позади тучами вздымалась пыль. Благополучно вернувшись домой, он ублажал себя великим множеством всякой еды и питья, а также симфониями Бетховена, пластинки с которыми — недавно выпустила компания «Колумбия» в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Рейд любил музыку, он вполне прилично играл на пианино, правда, это с ним редко случалось, так как он презирал свой талант, считая его пустячным и дилетантским.