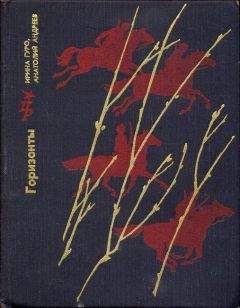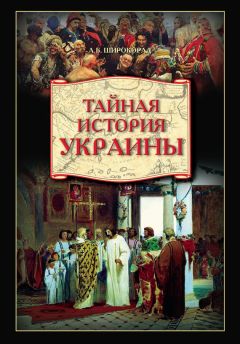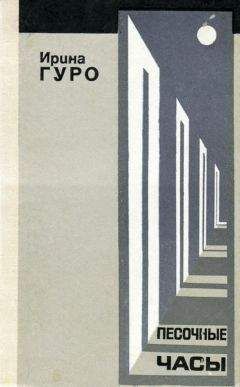Косиор говорил негромко и раздумчиво, мысли, высказываемые им, как будто родились не сейчас, но обрели форму именно теперь.
Знакомое Василю лицо, знакомое давно, с детских лет, казалось, не претерпело никаких изменений. Но что-то все же было новое: какая-то сложность, одухотворенность… «Но, быть может, — путано думал Василь, — я не улавливал раньше… Когда раньше? Да нет, не в далеком прошлом, а даже недавно… И только мое состояние сейчас, накануне такого шага, делает меня как бы более восприимчивым».
— Я тебе так уверенно все это говорю, потому что хорошо помню свои первые шаги в подполье. Тогда, еще при царе, а я был моложе, много моложе, чем ты сейчас… Это я не в укор тебе. Просто мы тогда раньше начинали, такая историческая необходимость сложилась. И вот я ехал, помню, товарняком. Вез транспорт литературы, но «транспорт» — это, конечно, для пышности называлось, а в действительности была плетеная корзина и в ней под нехитрыми пожитками — листовки: триста двадцать штук, и сейчас помню, что именно триста двадцать. Великое богатство для нас, потому что каждая листовка означала воздействие на десятки, может быть, даже и на сотни людей. И сила этого воздействия зависела не только от того, что говорилось в листовках, но и от того, как удастся их распространить. То есть от моего умения, хладнокровия и страсти… Потому что страсть в работе — это половина успеха. И вот тут-то рождается чувство ответственности, и оно уже тебя держит, как резиновый круг на воде. И ты, Василь, это чувство непотопляемости обязательно приобретешь!
Он вдруг спросил:
— Отец знает про тебя? Ну, куда ты отправляешься?
— Нет, Станислав Викентьевич, у нас, вы знаете…
— Знаю, знаю… — улыбнувшись, сказал Косиор, — я сам поговорю с отцом.
Теперь Станислав Викентьевич повернулся в своем кресле, так что свет лампы упал на его лицо, и глаза были обращены на Василя как бы с вопросом.
— Станислав Викентьевич! Я понимаю свою ответственность. И мне очень помогло это ваше слово. Вы так много значите для всей нашей семьи. А для меня особенно в такой момент — самый важный в моей жизни. Ведь я еще ничего не сделал…
— О нет, — прервал Косиор, — многое кроется в тебе и в других молодых людях. Вы и похожи на нас, и отличны от нас. Вы профессиональнее нас…
Встретив непонимающий взгляд Василя, Косиор пояснил:
— Ну вот ты — экономист. Ты со своей специальностью знаешь несравненно больше, чем я знал в твои годы. Ты умеешь больше, чем я умел в твои годы. Но ты имеешь и другую профессию, более для тебя важную. Ты — разведчик. И здесь ты тоже обладаешь большими знаниями, большим кругом ассоциаций, чем мы в свое время. Потому что ведь у нас тоже была партийная разведка, разведка нелегальной партии, и Ленин придавал огромное значение этой особенно глубоко законспирированной деятельности партии.
Ваше поколение, — продолжал он, — имеет более обширный кругозор. Вы поднялись при Советской власти, которая научила вас широко смотреть и мыслить…
Косиор встал из-за стола и, подойдя к окну, растворил его, в комнату ощутимо влился прохладный воздух, насыщенный запахом влажной после дождя зелени с примесью бензиновых паров. Василь видел тень беспокойства на лице Косиора, и ему хотелось найти слова, показывающие, что он готов, он просто начинен характеристиками, установками, кажется, на все случаи, могущие возникнуть…
Ему хотелось заверить в этом Станислава Викентьевича, и он сказал:
— Мы разрабатывали все могущие возникнуть ситуации, предусмотрели, кажется, все возможные встречи…
Он уловил интерес в глазах собеседника, тот как будто спрашивал: а именно?
И Василю просто было сказать:
— А некоторых я просто как будто вижу перед собой… Вот, например, Смаль-Стоцкого Романа Степановича…
Станислав Викентьевич понимающе кивнул головой, Василь продолжал, уже увлекаясь:
— …этого ученого лингвиста, профессора, и он же, этот теоретик, сейчас является заместителем министра иностранных дел мифического правительства УНР и курсирует между Варшавой и Парижем, осуществляя свои мифические функции… И все, что касается этого призрачного «кабинета», этой игры в правительство при отсутствии подданных, территории и, собственно, предмета деятельности, — ведь это могло бы быть просто смешно! Но это не смешно, потому что за этим стоит другая форма деятельности, совсем не мифическая, вполне реальная… Так вот с этой формой — посылкой к нам диверсантов и террористов — с этим я же сталкиваюсь вот уже сколько лет. — У Василя перехватило дыхание, но все же он досказал: — Станислав Викентьевич, я хоронил своих близких друзей, павших в этих схватках… Вы же знаете, совсем недавно убили Письменного, Семен был моим самым близким другом. И ту девушку… Вы ее помните?
Косиор тотчас отозвался:
— Софья Бойко… Помню. Она вот здесь сидела, в этом кресле. И эти слова ее помню: «Не може того буты…»;
— Так вот мое знание и мои потери, мои личные, ведь они тоже меня вооружают…
— Я что хочу тебе напомнить…
Косиор взял под руку Василя, и теперь они медленно ходили по кабинету. Голос Станислава Викентьевича, негромкий, немного усталый, почему-то напомнил какую-то давнюю-давнюю сцену: он, Василь, еще мальчик, сидит на кровати, поджав ноги, а «дядя Сташек» что-то рассказывает отцу и вдруг отрывается от разговора и обращается к нему, Василго: «А ты, конечно, уже понимаешь все, даже…» — и он произнес какое-то непонятное слово, отчего оба они с отцом засмеялись. А Василь думал было обидеться, но потом засмеялся тоже, совершенно не понимая почему…
— Я хочу сказать, что ты окажешься на очень бойкой международной развилке, потому что украинскую эмиграцию поддерживают и Франция, и Польша, и Чехословакия, и Румыния, и Болгария, и Югославия. А во Франции, надо тебе сказать, украинские националисты как у себя дома… Ты слыхал про такую организацию, которая называет себя «Прометей»?
— Да, знаю, вот этот Смаль-Стоцкий там задает тон… Косиор подхватил:
— Этот «Прометей» — там же весь сброд! Петлюровцы, грузинские меньшевики, дашнаки и прочие. Но если тот, настоящий Прометей был прикован к скале, то этот Лжепрометей нерасторжимой цепью прикован к империализму, в частности к французскому…
Станислав Викентьевич положил руку на плечо Василю:
— Ты знаешь, куда и зачем едешь, но я все же хочу тебе напомнить… Иные думают, что сам по себе наш рост, наше быстрое развитие, политическое и экономическое, и рост нашего военного потенциала гарантируют от поползновений империалистов и, следовательно, вся эта кухня варится попусту… Но это не так. Конечно, это кухня прислуги, лакейская кухня. Но где-то повыше варится другое блюдо — для господ. И лакеи будут разделять и удачи, и поражения господ. Но украинский национализм не только поэтому опасен, что его деятели там, за кордоном, ярятся на нас, и тщатся собрать силы, и мечтают двинуться в поход. И не потому он еще опасен, что империализм прикармливает его и делает на него ставку. Вообще, если по-человечески рассуждать, вся эта эмигрантская мешанина группировок, в том числе УНР, жалка со всеми своими претензиями на гетманскую булаву, со своим опереточным войском и «министром» Смаль-Стоцким. Но они опасны потому, что все еще имеют классовую почву у нас на Украине. Я имею в виду кулака.
…В короткую минуту, когда Косиор обнял его и Василь почувствовал прикосновение его крутого плеча к своей груди, потому что был много выше, Василь вдруг понял, что таилось во взгляде Станислава Викентьевича. Да, да, он разгадал это… «Да он просто боится за меня, — вдруг открылось ему в этом беглом и вместе с тем внимательном взгляде. — Так просто, так понятно…»
И то, что он, стоящий на командном мостике, попросту боится за него, как боялся бы его отец, если бы знал, это почему-то вселяло в него уверенность в успехе.
— Я вернусь, — вырвалось у него… Ему страшно хотелось добавить — «дядя Сташек», как он говорил когда-то, но он сдержался и выговорил поспешно: — товарищ секретарь, — что получилось уж совсем не к месту, и Косиор, засмеявшись, легонько повернул его к двери.
Обратно в ГПУ Василь шел пешком и долго еще ощущал ласковое и решительное движение Станислава Викентьевича, словно он, преодолевая что-то, отрывал его от себя.
Валентина Дмитриевича Рябова он вспомнил, как только доложили о том, что тот просит его принять. Вспомнил не только по имени, но и мгновенно, как часто с ним бывало, восстановил в памяти весь его облик: немолодой, несколько тучный человек, с ироническим выражением подвижного, умного лица. Лицо нервное, оживленное, контрастировало с вялыми, словно бы бессильными движениями. Даже в повороте головы, в пожатии руки, в жесте, которым инженер перебирал пухлыми пальцами бумаги, — просматривалось настроение: «ни к чему все это…» Казалось, что Рябов полон творческих идей и планов, но считает невозможным претворить их в жизнь. А может, не желает претворять.