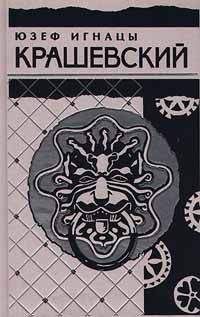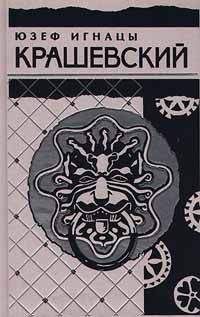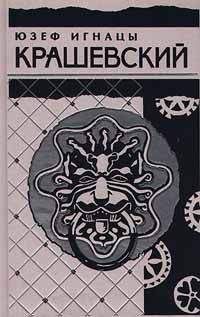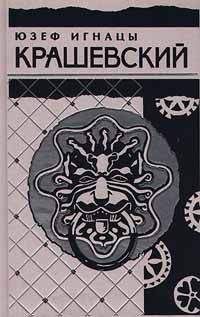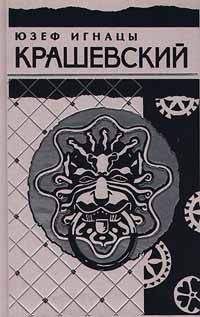Усталости как не бывало. А так как старик не знал, что такое страх, то немедленно, опираясь на палку, стал взбираться в гору на доносившиеся стоны, все, как казалось, приближавшиеся. И в то же время он глазами осматривал и обшаривал кусты, стараясь доискаться, откуда исходили вздохи.
Перед ним стоял огромный старый дуб, от которого широко разросшиеся корни и густая тень от листы глушили всякую растительность. Вокруг прозябали только мхи и мелкие былинки. На земле, у самого ствола, отец Оттон увидел распростертого мужчину, в ногах которого лежали две собаки. Одна, по-видимому, мертвая, другая при последнем издыхании. Да и человека, если бы не тяжкое, вырывавшееся из груди дыхание, мог быть принять за покойника. Он совсем не двигался. Голова, покоившаяся на закинутой руке, смотрела вверх; лицо было бледное, глаза закрыты, рот открыт. Густые, растрепанные волосы падали на лоб и на уши. Одет он был в темное платье, а такой же плащ подостлал под себя на землю; сбоку болтался меч в ножнах. Рядом валялся красивый лук из рога и короткое копье. По платью и лицу легко можно было признать в незнакомце богатого вельможу, либо заблудившегося на охоте, либо раненого. Вероятно, оставшись в одиночестве, он лег, потеряв надежду на спасение. На шнурке, через плечо, монах увидел небольшой рожок, изломанный в кусочки. Так или иначе, но было ясно, что больной был лишен возможности позвать на помощь.
Увидев несчастного, отец Оттон заторопился; собака, издыхавшая у ног хозяина, приподняла немного голову, взглянула тоскливыми глазами, точно призывавшими на помощь, и вновь бессильно опустилась на траву. Устремив глаза в бледное лицо страдальца, монах спешил, но, подойдя поближе и присмотревшись к незнакомцу, он окаменел. Прислонился к дереву и, по-видимому, колебался, идти ли дальше. Не спускал глаз с лежавшего, а в душе его боролись противоречивые чувства. Наконец, монах молитвенно сложил руки, вознес очи горе, слезы брызнули у него из глаз и, точно преодолев какое-то препятствие, он торопливым шагом подошел к несчастному, не слыхавшему, как казалось, ни шелеста раздвигаемых ветвей, ни шарканья ног.
И вот он лежал перед монахом: муж необычного роста и сильного телосложения при последнем издыхании. Сломленный каким-то тяжким недугом, он еще боролся, жалкими остатками едва теплившейся жизни сопротивлялся угрожавшей смерти. Лицо его было смертельно бледно, лоб наморщен, в углах рта глубокие страдальческие складки, придававшие чертам мученическое выражение. Но, несмотря на то, оно дышало непреодолимой гордостью, презрением к страданию.
Отец Отгон, отложив в сторону посох и корзинку, встал на колени рядом с умиравшим… Верный пес у ног хозяина взвизгнул странным голосом. Монах приложил ладонь ко лбу страдальца… Едва рука отца Отгона коснулась головы несчастного, как он вздрогнул всем телом, замотал головой, открыл черные глаза, и, по-видимому, стал напрягать закостеневшие члены, чтобы вскочить… Но силы изменили: он метался и сумасшедшим взглядом, исполненным испуга, всматривался в черты старого монаха… На лице отразились изумление и недоверие, он как бы ждал, что монах заговорит.
Отец Отгон молчал и только ощупывал рукою его тело; убедившись, что причиной обморока была только слабость, вызванная голодом и утомлением, он взялся за свою корзинку. К счастью, там была скляночка вина, которую силой навязал ему отец Августин. Посылая благодарение Богу, отец Отгон поспешил приложить ее к губам лежавшего, который от изнурения не мог пошевелиться. Осторожно, каплю за каплей, вливал он вино в засохшие губы страдальца, и жизнь почти сразу стала возвращаться.
Первой зашевелилась голова, вытянулась рука, и охотник медленно сел, прислонившись к стоявшему позади дереву. Его глаза ни на мгновение не отрывались от глаз спасителя.
Он или еще не мог, или не хотел произнести слова. Когда монах во второй и в третий раз приложил к его губам бутылку, глаза больного вспыхнули, он вздрогнул и, слегка отстраняя рукой монаха, стал кричать хриплым голосом:
— Поп поит ядом! Поп…
Ничего не отвечая, отец Отгон только печально встряхнул головой.
— Ты меня знаешь? — спросил несколько громче незнакомец.
На этот вопрос отец Отгон ответил не сразу. Он опустил голову, задумался, его бледное лицо покрылось нежным девичьим румянцем… потом он, видимо, сделал над собой усилие и тихим голосом промолвил:
— Нет, не знаю.
Незнакомец в изумлении приглядывался к монаху, насупив брови. Взор его медленно оторвался от лица бенедиктинца, стал скользить по окрестному лесу, упал на собак, опять скользнул по лесу и деревьям…
— Меня не знаешь! — сказал он, точно разговаривая сам с собой. — А зачем же ты вернул мне жизнь? Хочешь, поп, чтобы я подольше мучился?.. Все-то вы такие: мучите во имя милосердия!
Случайно он взглянул на рог, висевший сбоку; поднял его… Но от рога стались одни обломки, ни на что не годные, и он поспешно бросил их. Жажда и голод мучили его; позабыв все, он обеими руками потянулся к склянке, которую протягивал ему монах, схватил ее, или, лучше сказать, вырвал, и завладев, выпил вино до дна. Потом, бессмысленно смеясь, пренебрежительно швырнул ее в кусты.
Напиток мгновенно повлиял на истощенный организм. Глаза заблестели, лицо стало подергиваться судорогой, щеки покраснели. Отец Отгон вначале с опасением следил за этой переменой; потом обрадовался, так как было очевидно, что жизнь, не надорванная окончательно, вернулась.
Хотя монах сам проголодался, однако, решил пожертвовать своей корзинкой, в которой берег хлеб и сыр. Увидев пищу, охотник снова потянулся к ней всем телом и с нетерпением стал хватать руками воздух. Не оставляя для себя ни крошки, отец Отгон отдал все, что у него было.
Изголодавшийся охотник набросился на хлеб с жадностью животного; не глядя на ксендза, весь погруженный в заботы о самом себе, он прожорливо глотал еду, смеясь от удовольствия. Раз только взгляд его остановился на еще живой собаке, и у него как будто бы мелькнула мысль поделиться; но голод одолел, и он продолжал есть, уже не озираясь.
Жизнь, чем дальше, тем явственней вступала в свои права; движения сделались свободнее; монах, обрадованный успехом своего лечения, подумал, что глоток свежей воды будет полезен человеку, дрожавшему от голода, а потому стал искать в кустах бутылку. К счастью, она не разбилась, и он спустился с нею к ручейку, бежавшему с гор, чтобы зачерпнуть воды. Он нес ее и радовался, что несет охотнику запас свежего питья; а тот, не сказав ни слова, жадно высосал всю воду. После первых нескольких слов, они еще не говорили друг с другом. Незнакомец глубоко задумался, посмотрел на отца Отгона и повторил вопрос:
— Ты меня знаешь?
И опять лицо монаха залилось румянцем. Он молча отрицательно покачал головой.
— Возьми свою дубинку, — стал говорить охотник, — возьми корзиночку и уходи… иди, говорю тебе, иди! Видишь, я с мечем и тебя убью. Я убью тебя за рясу, которую ты носишь, за то, что ты вернул мне жизнь; за то, что я не терплю монахов и жажду крови… Уходи!.. Убью!..
Отец Оттон не шевельнулся, а охотник продолжал ворчать себе под нос:
— Все на один лад! Ни один шагу не уступит… змеи подколодные, от которых помирают люди…
Он нацелился ногой, делая вид, что хочет ткнуть ей монаха. Тот, опустив голову и молитвенно сложив руки, казалось, посылал к небу безмолвную молитву…
— Псы издохли, а я не мог! — сказал охотник. — Три дня, две ночи, а смерть не приходила…
Отец Оттон обернулся к говорившему.
— Милосердый Бог восхотел продлить твою жизнь, чтобы ты приблизился к нему, покаялся и умер, разрешенный от грехов…
Слова монаха как громом поразили охотника; он хотел вскочить.
— Лжец! Ты меня знаешь! — воскликнул он, хватаясь за меч. — Знаешь! Кто тебя прислал?
— Господь Бог, — ответил монах спокойно.
Сидевший под деревом ничего уж не сказал, а только дал монаху знак рукой, чтобы тот ушел. Однако отец Оттон не сдвинулся с места, а, воспользовавшись минутою молчания, сказал бесстрастным голосом:
— Да, я тебя знаю, но не хотел говорить тебе об этом. Ты был королем, а сделался убийцей; ты согрешил, но можешь спастись покаянием. Потому-то я, недостойный червь, осмелился напоить и накормить тебя, подпавшего проклятию, чтобы спасти твою душу с опасностью для собственной души.
Болеслав усмехнулся, иронически глядя на монаха.
— Моей души никто не вырвет из когтей сатаны, — воскликнул он, — вы, попы, сами предали ее дьяволу, а теперь притворяетесь, будто жалеете меня. Иди, иди и дай мне издохнуть вместе с собаками. Я забрался в пущу, чтобы люди не видели ни моей смерти, ни чертей, которые придут по мою душу… Иди, не то убью! Два ли попа, один ли, конец все тот же…
С этими словами Болеслав медленно взял меч, до половины обнажил его и стал рассматривать.