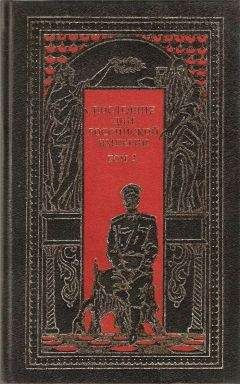Эту ночь в Горной не спали. Сбились по окраине хутора, по тёмным хатам, выставили кругом часовых, и ждали, и слушали. Хутор, в котором ночевали чернецовские партизаны, отделялся широкою балкою от другого хутора, где был враг. У чернецовцев была мёртвая тишина. Усталые, весь день они рыли в замерзшей степи окопы для последнего боя, голодные, они сидели по хатам.
— Господа! Приказ держаться до последнего патрона. А ночью уходить и распыляться по домам. Будем ждать лучших дней, — говорили офицеры, обходя своих партизан.
— Ведь не вечно же это будет! Образумится народ. Поймут казаки, что они против самих себя идут… — говорили между собою кадеты и гимназисты.
По ту сторону оврага всю ночь гремела музыка, играла гармоника, пели песни. Там стояли голубовские казаки и красная гвардия, присланная из Петрограда с приказом главковерха Крыленко: «Товарищи! С казаками борьба ожесточённее, чем с врагом внешним». Там тоже ждали утра, чтобы сокрушить «кадетов» и идти грабить Новочеркасск.
Утро настало ясное, солнечное. Подмерзшая за ночь степь оттаивала, и лёгкая дымка поднималась над чёрной блестящей землёй.
Офицеры обходили свою молодёжь и говорили: «Господа, берегите патроны. Мы должны дотянуть их до ночи».
— А если не хватит?
— На штык будем ждать…
Около полудня со скрежетом прилетела шрапнель и белым облачком разорвалась высоко в синем небе. Несколько пуль просвистало над окопами и застучали по-над хутором винтовки красной гвардии.
Нестройными чёрными толпами, то сливаясь с чёрной развороченной землёю, то резко рисуясь на бурой степи, покрытой травою со снегом, не успевшим потаять, показались рабочие и вооружённые крестьяне, сзади на конях ехали казаки. Это наступление не походило на военное наступление, но скорее на движение облавщиков, но ведь и против них лежали люди, не видавшие войны и не знавшие настоящей дисциплины строя.
— Закладай, Петушок, ленту, вот видишь, в этот паз, — говорил Гришунов Петушку, — вот так, ладно. А сюда протянем. Слыхал, щёлкнуло, ну вот пулемёт и заряжен.
— Ты только, Гришунов, не стреляй, — говорил Петушок, — ближе подпустим. Когда совсем близко будет — тарарахнем. Они убегут.
Маленькою покрасневшею рукою Петушок гладил пулемёт, и он казался ему живым и красивым на своих низких, широко поставленных, толстых колёсах. Точно лягушка сидела на степи, распластав лапы.
Свистнул, положив два пальца в рот, офицер и скомандовал:
— Прицел четырнадцать! Прямо по цепи, огонь редкий по два патрона. С правого фланга… начинай!
— Пулемёту можно? — спросил Гришунов.
— Пропустите десять патронов.
— Понимаю, — весело сказал Гришунов и, обращаясь к Петушку, заговорил: — Ну вот, гляди, ежели меня ранят или убьют, тебе стрелять придётся. Здесь нажал — это значит: с предохранителя на боевой поставил. Ну теперь, благословясь, начинаю. Вот, гляди, упёр приклад в плечо, прицел установил — четырнадцать — на тысячу четыреста, значит, шагов стрелять будем — так. Сначала пробные выстрелы. Ты хорошо видишь? Гляди, где грязь вспархивать будет пред им или за им?
Над ними свистели пули. Редкий артиллерийский огонь с большими промежутками посылал в зимнее синее небо белые дымки шрапнелей, они лопались в небе, пули частым жёстким горохом рассыпались по полю, и долго гудел улетавший пустой стакан. И пули и шрапнели это были: раны, мучения и смерть, но партизаны не думали об этом, они ещё не понимали опасности.
— Кочет, а Кочет, — вполголоса говорил долговязый гимназист своему соседу, пухлому, розовому с румяными щеками гимназисту, выпускавшему второй патрон. — Не могу стрелять. Навёл, а как увидал — на мушке человек в чёрном шевелится. И не могу… Ведь это… убить его приходится…
— Ничего, Пепа. Со мною то же было. Навёл, и страшно… Убить… А гляжу — и он в меня целит. И страх прошёл. Выцелил, нажал спусковой крючок, ружье дёрнулось, в плечо ударило. Бо-ольно. Отдача, значит. Мало прижал.
— Попал?
— Не знаю. Не видать. Только показалось мне: их пули стали реже свисать над нами.
— Ты стрелял раньше?
— Из винтовки? Никогда.
— И я тоже.
— Глупости, господа. Их бить надо. Их я не знаю, как уничтожать надо, — нервно заговорил студент с серым землистым лицом. — На моих глазах ворвались они в нашу усадьбу. Мать, старуху, схватили, сестру. Меня спрятали в поленнице дров, а мне видно и слышно. «Где, старая, — говорят, — У тебя спрятаны пулемёты, ружья»… Обыск делали, а потом сестра в доме так страшно кричала, с полчаса, я думаю… И затихла. Мать вывели. Простоволосую, седую, шатается, бормочет что-то, как сумасшедшая. Её схватили и в колодезь бросили… Потом несут сестру. В разодранном платье, белая, в крови вся… Мёртвая… и её туда же… А я сижу в дровах и думаю — только бы спастись. Не жизнь свою спасти. Она мне теперь ни к чему. А отомстить… Пепа, дайте ваши два патрона. Я за вас.
Он приложился и выпустил два выстрела.
— Кажется, попал… — хмуро сказал он.
— Отходят! — воскликнул Петушок. — Бегут! Эх, конницы у нас нет! То-то погнали бы!
Противник скрылся за домами. Стрельба затихла с обеих сторон. Сражение кончилось. Партизаны сходились кучками и передавали новости, принесённые пришедшими под утро из Новочеркасска людьми.
— Нам, господа, два дня только бы продержаться, а там — победа! У Алексеева в Ростове сорокатысячная офицерская Добровольческая Армия, он послал в Бессарабию, оттуда идёт генерал Щербачёв с чехо-словаками.
— Господа, я сам видел, в штабе обороны наклеена телеграмма, только что полученная Калединым: «союзный флот прорвал Дарданеллы и спешит к Новороссийску».
— Спешит к Новороссийску!.. Господа, сколько же это будет?
— Ну считай сам! Два дня от Константинополя до Новороссийска.
— За два дня не дойдут.
— Броненосцы-то?
— Так, поди, с ними и транспорты с войсками.
— Чёрная пехота.
— Эти покажут красным!
— Вот, здорово…
— Нет, погоди. Скажем так: четыре дня до Новороссийска. Ну, день на выгрузку — пять. Два дня до Ростова… Ещё неделя… А у нас по тринадцать патронов!
— А добровольцы!
— А чехо-словаки!
Так верилось… Так хотелось верить, что кто-то сильный, могучий, взрослый пошёл с ними, детьми, спасать Россию. Так не хотелось думать, что на всю Россию, на весь крещёный мир с его союзниками нашлось только восемьсот юношей, кадетов, студентов и гимназистов, принявших на себя славное имя замученного Голубовым Чернецова и пошедших умирать, как те триста спартанцев, о которых они учили в истории и писали в externporalia на ut и на postquam[15]…
Опять, шелестя и коварно шипя, пронеслась шрапнель и лопнула совсем близко, позади собравшейся группы. И не успела молодёжь что-либо сообразить, как подле них со страшным шумом ударила граната, раздался металлический оглушающий грохот разрыва и клубы тёмного вонючего дыма, комья земли, брызги воды и осколки, неприятно шуршащие, полетели фонтаном вверх. Кто-то жалобно крикнул. Кочетов схватился за грудь и упал, рука его покрылась густою чёрною кровью.
— Господа! Разойдись… В цепь!.. По окопу, — раздался взволнованный голос офицера.
— Носилки!..
— Кого… Кого?.. Много? — шептали побелевшими губами молодые люди.
— Двоих убило. Кочетова и Лаврова. Кадету одному ногу оторвало. Он и закричал. Шапкина в плечо ранило — и не пикнул.
— Как незаметно подкралась!
— Смотри! Опять идут! Густыми цепями!
— Прямо по цепи! — раздалась команда, и после пролитой крови она звучала твёрже, увереннее, и жажда мести за убитых слышалась в голосе безусого офицера, — прицел двенадцать! По три патрона! Редко… Начинай.
Суетился Гришунов, ему помогал Петушок. Слышался взволнованный голос Гришунова:
— С пулемёта можно?
К вечеру пришедшие из Новочеркасска люди принесли страшные известия.
Атаман Каледин застрелился… Он просил помощи для Дона у Добровольческой Армии. Корнилов ответил, что он держаться дальше в Ростове не может и что, если Дон хочет спасаться, он должен дать ему казаков. Приказали генералу Богаевскому дать всё, что он может, на помощь Корнилову. У Богаевского нашлось всего восемь казаков. Алексеев и Корнилов решили идти на восток, там искать счастья и спасать офицеров для будущей Русской армии.
— Вот, господа, — говорил бледный растерянный юноша в полушубке и высоких сапогах, — последний номер «Вольного Дона». Вот статья Митрофана Богаевского.