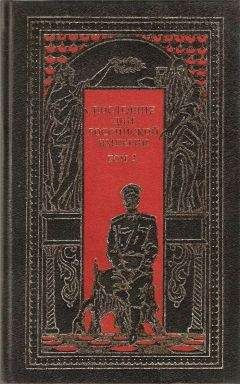…"Плакал хмурый, холодный день, а над Доном вал за валом медленно ползли свинцовые сине-чёрные тучи, и не летние грозы с тёплым дождём они несли: зловещие, жуткие — тянулись они над Доном и сулили ему горе, смерть и разорение»… — читал студент.
— И мы ничего не знали! — взволнованно сказал Гришунов.
— Читайте, Сетраков, — раздались голоса.
— «А эхо страшного выстрела уже гулко отдавалось по всему Дону, донским степям и рекам, и ликовал враг, и торжествовала буйная казачья молодёжь, и лишь старые казачьи сердца чутко прислушивались к этому эху, и недоброе почуяли они: донские казаки сами загубили своего лучшего рыцаря казака: первого выборного атамана.
Протяжно гудит старый соборный колокол: ещё недавно звал он на вольный Круг, а теперь, говорят, звонит он по душе Атамана Алексея Каледина; говорят другое: что звонит колокол похоронный звон по донскому вольному казачеству.
А по-над Доном, в час ночной, тихо реют тени прежних атаманов.
Славных честью боевой.
В ночь с 29-го на 30-е прибавилась ещё одна тень, и алая кровь сочится у неё из сердца.
Это тень атамана-мученика, Алексея Каледина»… Все, господа!..
— Но, постойте… Скажите, ради Бога… А союзники, прорвавшиеся через Дарданеллы?..
— Ложь… провокация. Дарданеллы крепко в руках у немцев.
— А… а… Чехо-словаки?
— Ничего не слышно.
— Да, сколько… Сколько же у Алексеева войска в Добровольческой Армии?
— Четыре тысячи. Половина больные.
— Это правда?
Молчание.
— Господа! В цепь. Противник наступает.
— У нас одна обойма!
— И она для врага!
— Правильно.
Опустели глаза, и яркие точки, пламенем горевшие в них, погасли. Сурово смотрят бледные лица, и сдвинулись хмурые брови, и морщины тяжёлой думы легли на белые, юные лбы.
* * * * *
«Мама! Что ж ты не молишься за меня… за нас!.. Мама, или ты не видишь, что мы уже ничего не можем сделать, как только умереть для того, чтобы и через двадцать два века говорили о нас, как о тех трёхстах лакедемонянах, которые пали в Фермопильском проходе, защищая Родину? Но там был узкий проход, а здесь беспредельная степь!.. Мама, забыла ты нас!.. Или не слышит уже Господь твоей святой молитвы?
Алексеев ушёл на восток. Куда? На Кубань, в Астраханские степи, в Туркестан, в Индию. А мы?.. Неужели мы бросим родную степь и оставим все на произвол судьбы? Там, сзади, Новочеркасск с его тихими улицами. Там, на Ратной, в семнадцатом номере та, которую я так люблю… Там, в Мариинском институте, сотни наших сестёр. Там та, с которой я танцевал шестого декабря и которая мне сказала слова ласки… 6 декабря… А 6 февраля я должен умереть и знать, что с нею будет поступлено, как с сестрою того длинного студента с землистым лицом, который поклялся мстить… Там, на Барочной, у самого спуска к Куричьей балке, живёшь ты, моя милая, тёплая, ласковая мама со своими заботами о курах, о индюках, с поисками квочки и думами о том, переживут ли зиму твои прекрасные персиковые деревья… Там, в комнате с блестящим полом, натёртым воском, висит большой фотографический портрет отца, убитого в ту минуту когда он брал австрийскую пушку. Там, над портретом, висит значок сотни, которою он командовал в бою и его Георгиевский крест. А над крестом портрет Императора. Мама! Не убирай его и тогда, когда придут… Там жил дед, и прадед построил этот дом ещё при Платове. Ужели никогда, никогда этого я не увижу, и те чёрные люди, что наступают теперь в сгущающемся сумраке, овладеют всем этим. А как же тогда ты, милая мама, как же вы, дама моего сердца с Ратной улицы, и вы, милая Мариинка, сказавшая мне слово ласки? Как же корпус?.. Месть!.. Месть…»
— Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки…
— Что ты, Петушок? — отрываясь от дум своих, сказал Гришунов.
— Это деда говорил. Пусть возникают, как травы, и пусть цветут. Это понимать надо — ибо исчезнут навеки!.. Гришунов — нам приказ есть отходить… По цепи передали. Давай последнюю ленту. Теперя они близко.
— Да, без прицела можно. На постоянном.
— Важно.
— А уволокешь пулемёт-то?
— Я-то! Два уволоку, не то что один.
— Ишь, как бьёт — вторая пуля подле… Пристрелялся… Видит.
— И все ничего. А ты по ему. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затрещал пулемёт и сразу примолк залёгший в пятистах шагах враг.
— А не ожидал! Ловко!
— Последние патроны.
— Идём, Гришунов. Вон наши по балке чернеют. Еле видать.
— Хорошо. Волоки пулемёт. А я ленты соберу, чтобы они неприятелю не достались.
— Опять палить стал, а то было перестал.
— Он, красногвардеец-то, трусливый. Вот матросы, те побойчивее будут.
— Матрос да казак — первые вояки! — горделиво сказал Петушок. Чёрная ночь прикрыла их. Закат давно догорел, и справа заволакивала зеленовато-чёрная тьма хрустальное небо, и ярко засветилась вечерняя звезда. Морозило и чуть потрескивал молодой ледок под ногами уходящей дружины. Сзади всех, нагоняя, шёл торопливыми шагами Гришунов, весь увешанный лентами. Перед ним, согнувшись под лямкой, тащил пулемёт Петушок. Пули щёлкали кругом. Иная, сорвавшись на рикошете, долго пела в воздухе, уносясь в темнеющую даль. Красногвардейцы не посмели подняться и преследовать детей-партизан, но усилили свой огонь по звуку шагов и по тем тёмным теням, которые мерещились им в надвигающейся ночи.
— Петушок, ты что? Спотыкнулся, что ли?
— Так… Точно палкой кто по голове ахнул… Больно как!.. Света не вижу!..
— Петушок! Ты ранен?
— Н-не… Кажись… совсем… убит…
Гришунов постоял несколько секунд над убитым мальчиком. Так хотелось взять его и унести, чтобы не досталось тело его врагам. Рука Петушка разжалась и выпустила пулемётную лямку. Это движение мёртвого тела напомнило Гришунову о главном его долге. «Обоих не унесёшь, — подумал он. — Наши далеко. Эх, Петушок, Петушок, спи, дорогой!»
Гришунов взял лямку и потянул пулемёт по скату балки вниз, туда, где слышался удаляющийся шорох шагов Чернецовской дружины.
На другой день около полудня дружина вошла в Новочеркасск. Никто не встретил её, и расходилась она по домам в тяжёлом сознании, что между нею и наступающим врагом уже никого нет больше.
* * * * *
9 февраля на собрании у вновь избранного Атамана Назарова было решено уходить из Новочеркасска.
Снова забегали дружинники, собираясь в поход. Они уже шли не для того, чтобы защищать свои семьи и родные дома, а для того, чтобы спасаться в широкой беспредельной степи.
— Э! Спасаться и здесь можно! — говорили многие и не шли на призыв своих соратников.
12 февраля в 3 часа дня потянулись через Дон, направляясь на Старочеркасскую станицу, дружины молодёжи, офицеров и некоторых старых казаков. С ними, в коляске на паре лошадей, ехал сытый, круглый, черноусый генерал — вновь избранный походный атаман Попов. Всего вышло 1500 человек, пополам пехоты и конницы с пятью орудиями и 40 пулемётами. Это было всё, что дало на свою защиту пятимиллионное население Дона с несколькими тысячами одних офицеров.
Атаман Назаров с Кругом остался в городе без всякой охраны.
В 5 часов дня в Новочеркасск вошёл Голубов, окружённый трубачами и казаками, а за ними чёрной лентой тянулись толпы матросов и красногвардейцев.
По городу выкинули красные флаги. Толпы простого народа раболепно приветствовали новых властителей. После пятивекового свободного существования Войско Донское перестало существовать и вместо него народилась «Донская советская республика федеративной социалистической России» — «Ды-сы-ры-фы-сы-ры» — во главе с неграмотным Подтелковым.
Тёмная ночь спустилась над Доном. Пьяные ватаги искали по домам «кадетов» и убивали их на глазах матерей, убивали раненых по лазаретам, избивали офицеров на улице, казнили Назарова, Волошинова, Исаева, Орлова, Рота и многих, многих других.
В маленьких хатах вдовы и матери тихо шептали побелевшими устами молитвы о мужьях и детях своих и поминали их и многих-многих иных мучеников: «Их же имена Ты веси». И днём, и ночью — у Краснокутской рощи, у вокзала, просто на улице — гремели выстрелы, и жители Новочеркасска знали, что это «самый свободный в мире народ» избивает детей и образованных казаков.
Кровавый туман интернационала, носившийся над Россией, полз по Дону, туманя головы, и новые могилы росли за кладбищем на песчаном просторе.
…"А по-над Доном, в час ночной, тихо реют тени прежних атаманов, славных честью боевой»…