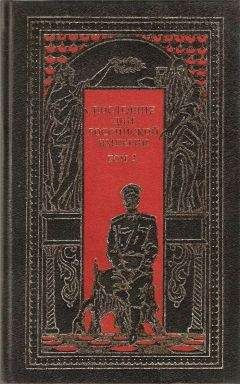Он верил, как верили и все окружающие его офицеры полка, что Корнилов спасёт Россию. Может быть, ценою их молодых жизней, это всё равно, но спасёт её.
И как бы отвечая на его мысли, в первом взводе молодой сильный голос завёл добровольческую песню:
Вместе пойдём мы
За Русь святую!
И все прольём мы
Кровь молодую!
Близко окопы…
Трещат пулемёты…
«Как спасёт Корнилов? Корнилов это знает. Он один… — думал Ермолов. — Ведь не может же быть, чтобы вечно русские люди были зверями. Ведь были же у него, тогда, под двуглавым орлом, в Морочненском полку, эти славные милые люди. Разве не он приходил ночью в окопы и видел коченеющего на стуже часового, напряжённо глядящего вдаль. Он говорил ему: «Байков, я пошлю тебе смену!» — и слышал бодрый ответ: «Ничего, ваше благородие, достою и так!» Разве не ему рассказывал убитый солдатами же Козлов о подвиге Железкина в бою под Новым Корчиным. Что же сталось с ними? Куда же девались они? Они с ума сошли, они одурели от речей, нелепых приказов, издаваемых штатскими главковерхами, от митингов и съездов, их, как быков, разъярили красными знамёнами, но, когда увидят они родной русский бело-сине-красный флаг, они поймут значение России и вернутся к ним. Там, впереди, как говорят жители, окопались против них полк 39-й пехотной дивизии и штаб артиллерийской бригады. Ведь не встретят же они, эти солдаты, уставшие от боев на Кавказском фронте, их огнём. Придут переговорщики, они переговорят, узнают благородные цели Корнилова, увидят его, а когда увидят, они не смогут не полюбить его, и они сольются с нами. И так от села к селу, увеличиваясь в росте, будет восстанавливаться старая Русская Армия и постепенно завернёт на север и вдоль по Волге, по историческому русскому пути, пойдёт освобождать Россию от насильников-большевиков».
Молодой хор уже подхватил запев, и дружно раздавалась по широкой степи, отвечая мыслям Ермолова, лихая песня:
Вместе пойдём мы
За Русь святую!
«Как снежный ком будет расти Русская Армия, будут восстанавливаться старые полки с их вековыми боевыми рыцарскими традициями.
А что заменит алое знамя грабежа, насилия и крови? «Учредительное Собрание… Республика…»
И все прольём мы
Кровь молодую! —
гремел хор.
«За Учредительное Собрание? За Республику?»
Близко окопы…
Трещат пулемёты…
— Строй взводы! — слышна впереди команда. Ряд серых спин, почерневших от пота, заслоняет горизонт и то место, где виднелось тёмное пятнышко на степи: Корнилов со свитой. Второе отделение, твёрдо отбивая ногу, подходит вплотную к Ермолову. У правофлангового пожилого капитана с узким и плоским лицом глаза смотрят сосредоточенно вдаль, и в них застыло величаво-молчаливое ожидание боя и смерти. Он коснулся своим локтем локтя Ермолова, и они пошли рядом.
— Поротно! В две линии! — кричит офицер, едущий на маленькой крестьянской лошадке, а сам слушает, что говорит ему, не отрывая руки от козырька, с аффектированным чинопочитанием, подлетевший к нему на статном коне молодой кавалерийский офицер.
Оттуда, где было на степи пятно корниловской свиты и где тоненькой змейкой вилась колонна авангардного полка, послышались резкие короткие удары одиночных ружейных выстрелов, и конный полк рысью пошёл влево, удаляясь от дороги.
Думать было некогда, надо было действовать.
Военный глаз ожидал за стройными колоннами пехоты увидеть маленькие аккуратные патронные ящики с красными флажками на них, за ними длинный ряд лазаретных двуколок с белыми навесами и алым крестом, потом двуколки и небольшое количество парных повозок штатного обоза, строго выровненных, сопровождаемых жидкою цепью обозного караула, но вместо этого он видел за маленькими частями армии, не превышавшей численностью пехотного полка военного времени, целое море в несколько сот повозок. Запряжённые крестьянскими и казачьими лошадьми, круторогими серыми громадными волами, где в два, где в три ряда, по широкому шляху и прямо по степи они медленно тянулись за полками, и даже не военному наблюдателю становилось ясно, что обоз съедал армию, и не обоз был для армии, а армия была для обоза, служила его прикрытием.
Около половины повозок были заняты ранеными и больными добровольцами, вывезенными из Ростова. Корнилов не позволил оставить в Ростове на «милость победителей» ни одного офицера, ни одного солдата своей армии. Все знали, что «милость победителя» — были издевательства, мучения и лютая смерть.
При них пешком, на подводах или верхом двигались чины врачебного персонала и сёстры милосердия. Одни были одеты по форме, с передниками с алыми крестами, другие были в своих шубках, пальто и городских шляпках. С ними ехали жёны, сёстры и дети офицеров, которых тоже нельзя было бросить, так как и их ожидали издевательства и смерть.
Всем этим громадным транспортом заведовал, волнуясь и сердясь, высокий исхудалый, бритый, без усов и бороды, человек с издерганными нервами, страдающий ранами и болями каждого офицера и не находящий себе покоя. Это был Алексей Алексеевич Суворин, автор книги «О новом человеке», верящий в индийскую мудрость и не могший вместить всей простоты ужаса войны, человеческих мучений и смерти.
При обозе, в извозчичьей пролётке, обложенный кульками и чемоданами с французскою казною, ехал исхудалый и сморщившийся инициатор создания Добровольческой Армии — генерал Алексеев. У него были свои думы и свои планы кампании. Он тоже верил в союзников, но его вера не была так страстна и сильна, как у Корнилова. Его уже постигли разочарования. Он видел равнодушие к судьбам России и эгоизм чехо-словаков, он видел, как миллионеры и тузы Ростова жертвовали рубли, приберегая миллионы для встречи победителей, он перенёс всю горечь отказа Каледина дать из складов обмундирование и снаряжение для добровольцев. Он понимал, что Каледин был связан по рукам и по ногам Правительством и Кругом, где шумел беспринципный Агеев и где большинство держалось мудрого правила: пригребай к своему берегу, но простить этого Каледину он не мог.
Алексеев менее враждебно смотрел на немцев и думал уже, что всё равно, кто бы ни помог России и её Добровольческой Армии, лишь бы помог.
Он думал о Кубани и казачестве. Прилежный ученик Академии, он считал, что база будущей России где-то в пространстве беспредельных степей Азии и даже Индии невозможна. Он не искал рукавиц кругом себя, когда они были за поясом. Едучи в обозе, беседуя по-стариковски со стариками казаками и в Ольгинской, и в Хомутовской, и в Кагальницкой, и в Мечетинской, он убеждался, что казачество в корне своём было против большевиков. Если в Ольгинской их провожали выстрелами, а под Кагальницкой был и целый бой, в котором казаки позорно держали нейтралитет, то это было поверхностное озорство, принесённое строевыми казаками с фронта, усталость и боязнь серой, тупой и жестокой солдатской массы. Алексеев полагал создать базу на Кубани и на Дону, а там, что Бог Даст. Москва и Ростов, союзники и чехо-словаки не исполнили своих обещаний. Армия должна была опереться на население, и таким населением Алексееву казалось казачество с его тучными плодородными землями. И путь свой Алексеев держал определённо: на Екатеринодар. Но так же, как и Корнилов, ни дум своих, ни планов он никому не говорил.
Кроме раненых и семей офицеров-добровольцев, в обозе, в экипажах, драндулетах, на линейках, на подводах, а кто и пешком шли все те, кто боялся остаться в Ростове и Новочеркасске, опасаясь мести большевиков за прошлую политическую деятельность, кто бежал от кровавого ужаса Петербурга, Москвы, Харькова и Киева на Дон, а с Дона при приближении большевиков был готов бежать куда угодно, лишь бы быть в привычном обществе, лишь бы не быть принуждённым жить по указке хама. На подводе ехал со своею семьёю член четырёх Государственных дум и председатель двух М. В. Родзянко, шли и ехали многие из тех, кто в кровавые дни «бескровной» мартовской революции своими речами и статьями валил Российскую Императорскую Армию, поносил офицеров, а теперь примазался к добровольцам, превозносил доблесть их подвига и пел гимны белизне и чистоте идеи Добровольческой Армии.
Хмурым февральским вечером, когда одна часть Ростова, платя бешеные деньги за подводы и сани, вдруг устремилась на мост через Дон, а другая торопливо развешивала запрятанные красные флаги, остатки празднования «великой бескровной», когда махровым цветом стали распускаться подлость и предательство, когда по Аксайскому тракту печально уходили небольшие дружины добровольцев, а по предместью вспыхивала неизвестно кем поднятая ружейная стрельба, Оля Полежаева, проводив братьев, вышла на улицу с небольшою котомкою за плечами.