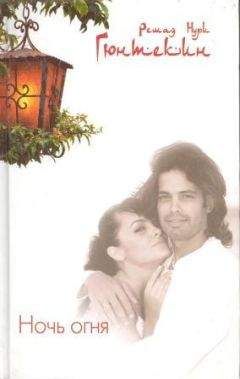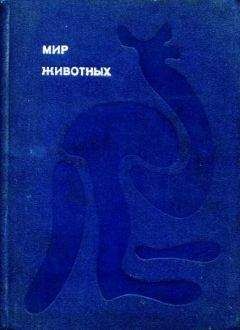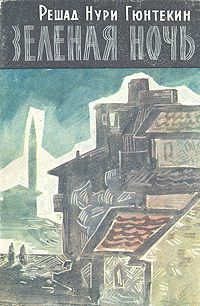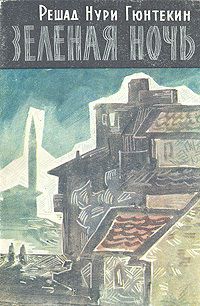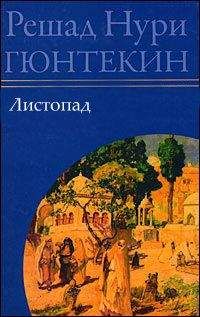Впрочем, почему-то мне не было скучно. Несмотря на жару, в воздухе витал легкий аромат осени. Ее мановение чувствовалось даже в убранстве деревьев, цвете травы и виде неподвижных холмов, возвышающихся в солнечном свете, словно в тумане.
Девушки под руку прогуливались вдоль улицы, порой делая несколько танцевальных па под звуки граммофона и шарманки, перешучивались с юношами, стоя вокруг качелей, и заставляли меня вспоминать те вечера в церковном квартале.
Наконец старая тетушка, которая жарила шашлык на костре, разожженном между камнями, вдруг воскликнула:
— Эй, девочка, принеси-ка мне платок! Платок принеси!
В ее голосе слышалась гармония провинциальной речи, и я полностью погрузился в прошлое.
По сердцу разлилась сладкая невинная печаль, а мои глаза выискивали в толпе девушек Стематулу, Рину, Марьянти и Пицу. Вот старый грек в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, лысый, с густыми усами — он похож на старосту Лефтера-эфенди. Напротив него спиной ко мне стоит худая женщина в черном. Я не мог оторвать от нее глаз. Мне казалось, что стоит ей обернуться, и я увижу усталое, бледное лицо тетушки Варвары.
Даже старые детские чувства вроде нерешительной радости, печали, надежды и отчаяния пробудились вновь. Через некоторое время они все поблекли, осталась только любовь к Афифе. Я вдруг проснулся осенним утром, глядя, как занимается рассвет по ту сторону белых батистовых занавесок тетушки Варвары, а моя душа переполнялась Ею. Сегодня день визита, и я счастлив, что смогу с Ней увидеться. Я встретил Ее на улице, залитой солнечным светом, и видел, как вуаль колышется над Ее прозрачным лицом. Мы в деревне, смотрим друг на друга, а я со слезами признаюсь Ей в любви...
Несомненно, жизнь даровала мне гораздо больше, чем я мог ожидать и, возможно заслуживал. Но теперь я понимал, что будущее, которое виделось мне в годы бессилия и отчаяния, оказалось совсем иным на вкус. Наверное, впервые за много лет я чувствовал, что недоволен, что меня обманули и я не смог добиться того, чего хотел.
Лишь Аллах знает, как я смотрел на Афифе в эти минуты. Она тоже подняла глаза и, часто моргая глядела на меня.
Мать радовалась, как ребенок. Она разглядывала шарманки, людей, которые шумно беседовали за ужином, и вдруг спросила:
— Ведь это конец, не правда ли?
У меня неожиданно сжалось сердце, но я сделал вид, что ничего не понял:
— Конец чего, мама?
Она зажмурилась и улыбнулась:
— Мы больше никогда не встретимся все вместе. Вы, может быть, еще увидите друг друга. Но меня с вами уже не будет.
Я выдавил из себя смешок, изобразил оживление, поддельную радость, что-то сказал, а затем поднялся на ноги, сказав, что хочу показать детям качели. Однако я чувствовал, что это конец не только для нее, а для нас всех. Три человека, связанные тонкими узами любви, скоро разойдутся. Минует последний день, и каждый пойдет своим путем, чтобы больше не встречаться.
В тот час, когда я провожал отца и мать до источника в горах Миласа, я пережил тяжелый приступ. Прошло целых десять лет, и он настиг меня снова. Но теперь это было не просто непонятное чувство, не имеющее явной причины. По правде говоря, мать прожила еще несколько лет. Но с тех пор, как Афифе уехала, мы больше никогда не были так близки. А уж тем более не совершали совместных прогулок.
* * *
Близился закат. Толпа постепенно рассасывалась, люди отправлялись домой. Шарманки заливались пуще прежнего, качели с детьми в красных и желтых развевающихся одеждах взлетали все выше и выше.
Заметив, что наши дети с тоской смотрят на качели, Афифе предложила:
— Госпожа... позвольте, я прокачу их разок.
Мать забеспокоилась и ответила решительным отказом. Она не была сторонницей такого развлечения, считая его опасным даже для чужих детей. Что мы скажем, если с детьми случится беда? Ведь мы отвечаем за них.
Поодаль карусель под тентом, украшенным флагами, приглашала на последний сеанс. Матери суетились, рассаживая старших детей по деревянным лошадкам с оторванными головами и хвостами, а младших — в кареты, на руки братьев и сестер.
Видя, что многие места остались пустыми, владелец карусели энергично тряс колокольчиком, зажатым в кулаке, и кричал:
— Торопитесь, отходит последний паром! — Затем он добавил: — Позднее раскаяние пользы не приносит, сегодня — есть, завтра — нет...
Вдруг я заметил, как Афифе подалась вперед, чтобы остановить медленно кружащуюся карусель, и обратилась к моей матери:
— Пожалуйста, госпожа, позвольте. Ведь это последняя... завтра уже не будет...
Не дожидаясь ответа, Афифе усадила детей в пустую карету, когда та неспешно проплывала мимо нас. Дети махали руками на прощание, как будто отправлялись в долгое путешествие, а она радостно приветствовала их в ответ.
Затем молодая женщина повернулась ко мне:
— Смотрите, Мурат-бей, как они довольны. — Внезапно она заговорила о другом: — Для нас завтра уже не будет! — И заплакала.
Чтобы не показывать слезы матери, Афифе подалась вперед и распахнула объятия, будто пытаясь поймать малышей.
— Для нас завтра уже не будет!
Давно, в минуты отчаяния, я без конца повторял эту знаменитую фразу, сошедшую со страниц романа. Не помню, произносил ли я ее в присутствии Афифе, или же по странному стечению обстоятельств она сама позаимствовала те же слова из книги, которую прочла одновременно со мной?
Одно несомненно: спустя десять лет Афифе говорила моими словами, с такой же интонацией и слезами на глазах.
* * *
На обратном пути людей стало больше. Кого там только не было: мужчины, которые несли малышей на плече, словно кувшины, женщины с корзинами, старики, опирающиеся на трость, юноши с мандолинами, а позади — стайки девушек и задиристых ребятишек...
Чтобы не сбить кого-нибудь, приходилось ехать довольно медленно. Из толпы доносились запахи и звуки моей юности, проведенной в церковном квартале. Я как будто плыл, окруженный ими.
В какой-то момент мы остановились, так как повозки впереди преградили нам путь. Неподалеку высился источник-аязма. Я видел его по пути в Кысыклы.
Мерцание свечей придавало ему особый блеск, хорошо заметный в сумерках. На входе изможденная женщина по-гречески зазывала клиентов, размахивая свечами, которые держала в руках.
В конце войны свет стал одной из главных забот стамбулитов. Чахлые свечи, толщиной с карандаш, пользовались небольшим спросом, так как набожные старухи предпочитали сотворить молитву на ходу и продолжить свой путь.
Не говоря ни слова, Афифе выпрыгнула из повозки и направилась к столику со свечами. Как только она открыла сумочку и начала перебирать ее содержимое в поисках денег, я последовал за ней.
Вскоре мы спускались по ступеням источника: она — впереди, а я — следом. Афифе завела разговор с какой-то женщиной, придерживающей под руки старуху, а я слушал давно забытую мелодию ее речи (Афифе говорила по-гречески) и разглядывал темно-синий кафель на стенах, расписанный миниатюрами из библейских сюжетов. Тяжелый запах плесени, ладана и горящего масла щипал горло, заставляя меня время от времени покашливать.
Повернув голову, я вдруг обнаружил, что Афифе стоит в той же позе, как и в ночь нашего знакомства в церкви, в Миласе.
Она прислонилась к стене, вжала плечи и подняла глаза. Платок соскользнул с ее головы, серебристая прядь волос упала на лоб. Еще прежде при особенно ярком свете я замечал у нее седые волоски. Теперь их стало больше, хватило бы на небольшой локон.
Но удивительное дело! Выражение ее лица было в точности таким же, как в Миласе. Более того, она казалась совершенным ребенком, так как былая степенность и неподвижность уступила место невинной скорби.
Миниатюры на стенах изображали святых мучениц с нимбами, и я ощутил необычайное сходство между ее лицом и их ликами.
Странное, в самом деле, очень странное совпадение... Эта ночь так напоминала ту Ночь огня, что казалась ее повторением... Мы снова сошлись лицом к лицу, обуреваемые теми же чувствами, а декорацией вновь послужило мистическое убранство чужой религии. Но череда волнений, страданий и слез, не ведомых никому, осталась позади. С тех пор прошло двенадцать лет.
Казалось, судьба обращается к нам с мистическим предписанием, даруя такое сходство двум случайным моментам жизни. Эта ночь действительно должна была стать последней, а последующая разлука — непреодолимой. Чад светильников и ладанок теперь не только щипал горло, но и жег глаза.
Вглядевшись в лицо Афифе, я заметил, как слезы катятся из-под ее закрытых век. Что искала последняя дочь Склаваки среди символов чужой религии и свечей, о чем плакала? Пусть вера чужая, но природа душевной боли одна и та же: мы склоняем голову в печали, подчиняясь тем же законам...