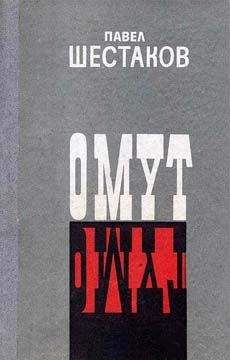— Совершенно верно, — охотно согласился Техник и качнулся в кресле.
Жилец Самойловича оказался небольшого роста, но очень аккуратно сложенным человеком с русыми волосами, разделенными на прямой пробор, в серой рубашке навыпуск, подпоясанной узким ремешком, и в узком галстуке.
— С кем имею честь? — спросил он негромко, но спокойно.
Самойлович затруднился с ответом, но Техник выручил его:
— Вы пока свободны. Я сам представлюсь.
— Очень хорошо. Я посижу с женой. Вы же знаете, у меня больная жена.
— Кланяйтесь, — кивнул ему Техник.
Самойлович вышел с облегчением.
— Какой нервный человек, — проговорил Техник вслед. — С его-то комплекцией! Того и гляди удар хватит.
Жилец ничем не откликнулся. Он стоял все в том же невозмутимом ожидании.
— Вы спросили, кто я? Да ведь вам известно. Я — это я. А вы, если не ошибаюсь, Волков Владимир Артемьевич?
Тот чуть наклонил голову:
— Чем могу служить?
— Многим. Меня интересует сплетня о пароходе.
— Сплетни не собираю.
— Тем лучше. Доверьте мне истину.
Владимир Артемьевич с большим усилием сдерживал замешательство. Барановский приказал передать сведения Самойловичу. Появление Техника было для него неожиданностью, он не знал, для кого и зачем передаются сведения, не знал, как поступить.
— Я не уполномочен.
— И не надо. Доверьтесь так, по любви.
— Не имею полномочий, — сказал он все тем же тоном и отвернулся к зашторенному окну.
«Сейчас я узнаю все, — подумал Техник, — хотя это и сопряжено с некоторым риском. Но истина того стоит».
— Вы напрасно упрямитесь. Я мог бы заковать вас и бросить в темницу, пытать огнем и водой, но я благородный человек, я предъявлю вам верительные грамоты.
«Это он. Я играю наверняка».
— Как говорится, лучше один раз увидеть, чем долго слушать. Посмотрите.
Он достал из кармана лист бумаги и развернул его, не выпуская из рук.
Но Владимир Артемьевич и не попытался, подобно тигру, ринуться к этому листу. Он лишь по-прежнему спокойно рассмотрел его в руках Техника.
— Ну и что? — спросил он.
— Склоняюсь перед вашим бесстрастием. Ни Рафаэль, ни Тициан не взирали так равнодушно на собственные творения.
— Что вы хотите сказать?
— Разве это не вы рисовали?
Владимир Артемьевич молчал. Техник и не догадывался, какие чувства крылись за этим молчанием.
— Чего вы ждете от меня?
— Только не последнего слова. Ведь вы понимаете, что я не чекист, не шантажист и тем более не заплечных дел мастер.
— Кто же вы? — спросил Владимир Артемьевич, и по его губам пробежала гримаса.
— Я ваш соратник, — ответил Техник и слегка раскачался в кресле.
— Теперь мне понятно.
Гримаса проплыла в обратную сторону.
— Отлично. И, как говорят французы, — кураж! Что по-нашему значит «смелее».
— Пароход отправляется двадцать седьмого. Если будут изменения, вы узнаете.
— А сумма?
Владимир Артемьевич расстегнул карман на рубашке, достал карандаш и небольшую записную книжку, вырвал оттуда листок и, не сказав ни слова, четко обозначил на нем цифру и показал Технику.
— Это меня устраивает.
Волков неторопливо разорвал бумажку в мелкие клочки.
— Лев Евсеич! — произнес Техник, повысив голос. — Добро пожаловать к нам. Скорее, скорее! И не притворяйтесь, что вы оказываете первую помощь страдающей супруге. Я прекрасно слышал, как вы страстно дышали, Подслушивая за дверью. Скорей, скорей к нам.
Самойлович однако выдержал пару минут, прежде чем появился, явно довольный.
— А вы боялись за ваше зеркало! Позор. Разве можно так плохо думать о своих гостях? Настоящие джентльмены никогда не позволят себе… И по такому случаю достаньте из фамильных подвалов замшелую бутылку. Выпьем за тройственное согласие. Вы готовы, Владимир Артемьевич?
— Благодарю, я нездоров.
Самойлович остановился у шкафчика.
— Сочувствую, — сказал Техник. — А я позволю себе, с вашего разрешения. Что вас смутило, Лев Евсеич?
— Я могу быть свободен? — спросил Владимир Артемьевич.
— Если вы спешите.
— Да, у меня есть неотложное дело.
Волков вышел, хотя по его походке, все тем же сдержанным движениям и нельзя было заключить, что он особенно спешит.
Он прошел в свою комнату, убранную с канцелярской аккуратностью, характерной для самого жильца, и присел к столу. За столом Владимир Артемьевич просидел довольно долго и неподвижно, уставившись в одну точку, потом выдвинул боковой ящик и достал лист бумаги. Некоторое время он рассматривал чистую бумагу, будто хотел прочитать невидимые строки, но не нашел их и снял круглую никелированную крышечку со стеклянной чернильницы кубической формы. Обмакнув в чернила простую ученическую ручку со стальным перышком, Владимир Артемьевич написал мелким, но очень четким почерком, буквами старого правописания:
«Ваше высокоблагородие, господин подполковник!»
Однако это обращение почему-то не удовлетворило его, и он, после некоторого раздумья, зачеркнул слова «ваше высокоблагородие», проведя по ним пером и оставляя по обе стороны от линии крошечные чернильные брызги. Затем он сложил и разорвал лист и положил разорванные клочки в бронзовую пепельницу.
Взяв новый лист, Владимир Артемьевич вывел в обращении только два слова:
«Господин подполковник!»
И снова задумался, откинувшись на спинку стула.
Так он и писал. Медленно, обдумывая каждое слово, сразу набело, без помарок — и исправлений. Писал долго. Когда стемнело, включил электрическую лампочку, свисавшую с потолка посреди комнаты, без абажура.
Получилось следующее:
«Сегодня я имел возможность собственными глазами убедиться в том, что дело, которому я поклялся служить, находится в нечистых руках.
С Вашего, несомненно, ведома ко мне явился субъект, в котором я без труда узнал бандита, известного по кличке Техник, и предъявил документ, исполненный моей рукой в единственном экземпляре, специально для Вас. Более того, в хамской фиглярской манере вышеупомянутый субъект позволил назвать меня своим соратником и потребовал назвать срок и сообщить другие сведения о рейсе парохода „Пролетарий“.
Сопоставив его требования с Вашим указанием предоставить аналогичные сведения другому господину, я вынужден сделать — из вышеизложенного следующие выводы:
1. Вы сотрудничаете с преступниками.
2. Операция, задуманная мной как мера справедливого изъятия похищенных большевиками ценностей с целью использования их в ходе борьбы за освобождение Родины, доверена Вами человеку, который по законодательным нормам как императорского российского правительства, так и любого из белых движений подлежит смертной казни за многочисленные уголовные преступления.
Между тем я глубоко убежден, что все несчастья, происходящие с многострадальной Россией, имеют первопричиной утрату чистоты и принципиальности. Беру смелость утверждать, что даже большевизм в пору зарождения нес идеалистические черты, однако, объединившись для захвата власти с германским генштабом и мировым еврейством, обрушил страну в катастрофу.
Грязь всегда делает свое черное дело. Достаточно вспомнить, как грязь коснулась царской фамилии и к чему это привело. Увы, и поднимающие меч за справедливое дело берут его нечистыми руками! Я же глубоко убежден, что, не очистившись духовно, мы не только не победим, но даже в случае победы принесем зла больше, чем потерпев поражение.
Цель не оправдывает средств. В этом мое кредо, выстраданное годами национальной трагедии. Для меня эта мысль аксиоматична.
К великому сожалению, для Вас, да и для огромного большинства, этот простой постулат все еще требует доказательств. Ждать, пока его осознают как истину даже лучшие, субъективно честные люди, к которым я отношу и Вас, господин подполковник, у меня нет больше сил.
Я ухожу.
Господь нас рассудит.
Прощайте!»
Владимир Артемьевич перечитал написанное и нашел, что выразил свои мысли ясно и достаточно коротко. После этого он твердо и четко поставил подпись и дату.
Оставалось запечатать письмо в конверт и подготовиться к главному.
Конверт был под рукой, в верхнем ящике стола, а наган под подушкой на койке.
Достав револьвер, Владимир Артемьевич снова присел к столу, покрутил барабан и извлек патроны. Каждый он осмотрел, будто проверяя, не подведет ли, и один за другим снова вставил в гнезда. Потом он внимательно осмотрел свои руки, уловил запах ружейного масла и заметил на указательном пальце следы чернил. Это ему не понравилось. Он подошел к комнатному умывальнику и долго тер намыленные пальцы, а затем так же долго и тщательно вытирал их вафельным полотенцем.
Подумалось, а не дописать ли «я умываю руки», но показалось высокопарным, и мысль эту он оставил.