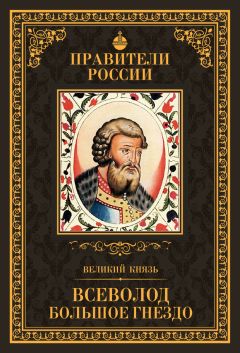– Здравствуйте, светлые витязи, защитники и устроители земли Русской! – в пояс поклонилась бывшая разумница Марфуша. – Примите благословение от грешной черноризицы Меланьи.
Расцеловались по-родственному. Инокиня всплакнула, Александр нахмурился, а Гаврила поспешно сказал:
– Дары сестре-хозяйке вручу.
И тут же вышел, как то было условлено с князем. Но заранее условиться – одно, а остаться наедине с первой любовницей – совсем иное, и Невский, смутившись, забормотал что-то об отце, отъехавшем в Орду, о дружине, об Андрее. Но, упомянув о Настасье, тут же угрюмо и замолчал.
– Смущен не ты, князюшко мой, смущено сердце твое, – тихо сказала Марфуша. – Доверься ему, отпусти на волю его.
– Правду ты сказала, Марфуша…
– Прости, князь, Меланья я во иночестве.
– Прости, сестра Меланья. Не было у меня никаких тайн от тебя, все тебе выкладывал, и легко мне было жить, – вздохнул Александр. – А сейчас навалились эти тайны на меня так, что задыхаюсь я под ними.
– Я душу тебе свою подставлю. Переложи, сколь нужным сочтешь, за тебя все отмолю.
– Встретил я девицу, добрую и разумную, – Невский говорил, не поднимая глаз. – И будто обожгла она меня, будто… – Александр помолчал. – Но я – князь, я Руси принадлежу, а не воле собственной. Скажи, сестра, имею я право на любовь, как человек, или должен, как князь русский, просить Батыя отдать мне в жены дочь?
– Бог душу дарит, а Матерь Божья – сердце любящее, – тише, чем обычно, сказала монахиня. – Когда посещает человека истинная любовь, сама Пресвятая Матерь Божия в сердце его заглядывает. Покорись ее выбору, Александр, и благодать Небесная сойдет на тебя.
– Значит…
– Покорись любви, и обретешь покой.
– Благодарю, благодарю тебя, Мар… сестра, – горячо сказал Невский, впервые улыбнувшись. – Камень ты сняла с души моей.
С грустной, еле обозначенной, но очень взрослой улыбкой смотрела на него Марфуша. Князь смутился, полез за пазуху, достал крестик.
– Прими на память о грешном Александре.
Монашенка отрицательно покачала головой:
– Золота без греха не бывает. А моя опора – смирение гордыни моей. Как же наречена дева, избранная тобою?
– Васса.
– Васса, – со странным, гулким выдохом повторила инокиня, согнулась в поясном поклоне и, не разгибаясь, добавила торжественно, будто клятву произнесла: – Ежедень повторять буду имя сие в своих молитвах. Бога и Матерь Его Пресвятую буду молить, чтобы родила тебе жена, нареченная Вассой, сильных сынов и здоровых дочерей, дабы никогда не пресекся высокий род твой на Святой Руси…
Крупные слезы одна за другой гулко капали на каменные плиты пола…
На обратном пути из монастыря Невский был грустен, молчалив и задумчив. А едва войдя в палаты, сказал:
– Собирайся.
– Куда? – несколько оторопел Гаврила.
– Сватать меня. Кого еще возьмешь?
– Андрея. Тесть будущий кто, князь или боярин?
– Друг отцов. До боярина не дослужился. Не все ли равно?
– Это я насчет подарков. Каждой рыбке – свой червячок, Ярославич.
– Золотая рыбка! – вдруг рявкнул Александр. – Полюбил я ее, ясно это тебе?..
После столь громогласного рыка Олексич больше с расспросами к Невскому не приставал. Но подарки подобрал, рыку этому соответствующие, да и в состав посольства, сопровождающего уполномоченных князем сватов, включил людей знаменитых и известных. А когда все было готово, лично приехал за князем Андреем.
– Сватать люблю! – живо откликнулся Андрей. – Но не за так, Гаврила Олексич. Слово дай, что за меня к князю Даниилу Галицкому старшим сватом пойдешь, тогда хоть сейчас с тобой выеду.
– Считай, что уже дал, – улыбнулся Гаврила. – А где же невеста твоя, князь?
– К отцу отпустил. Сватов ждать да наряды шить.
Андрей собрался быстро, и через неделю сваты с весьма крупным обозом (Гаврила Олексич не забыл слов о «золотой рыбке»!) выехали в неблизкую усадьбу. Ехали не торопясь, подлаживаясь под медленный обоз, часто останавливаясь, чтобы не заморить лошадей. Князь Андрей и, как правило, Олексич часто обгоняли караван, чтобы поохотиться и тем скрасить унылые общие обеды. Иногда к ним присоединялся и Яков Полочанин, которого Гаврила с трудом выпросил у Невского для большего представительства, поскольку остальные бояре были в возрасте, предназначаясь в основном для совместных воспоминаний с хозяином и – почета. Но Яков добровольно взял на себя обязанность приглядывать за обозом, а потому часто задерживался где-то в хвосте.
– Европу хочу поглядеть, – болтал неугомонный Андрей. – Моя Настасья Даниловна много чудесного рассказывала о ней.
– Что же чудесного-то?
Гаврила Олексич настолько утомился от болтовни князя, что частенько подумывал, не напрасно ли он его пригласил сватом: дернул же черт за язык… Однако лукавить и подлаживаться он не умел, а потому быстро усвоил тон плохо скрытого раздражения и всегда – супротив. Что бы при этом ни говорил Андрей. Но князь был на редкость легкомысленным, чужого настроения не замечал, а свое скрывать не считал нужным.
– А то хотя бы, что города у них – сплошь из камня. А у нас только церкви, монастыри да хорошо, если крепости. Даже терема княжеские из дерева строим.
– Жить в каменных палатах не пробовал? Сыро в них. И душно.
– Зато снаружи – вид. Сразу видно: дворец. А у нас – просто большая изба.
– Зато коли сгорели при набеге, то отстроить заново да получше прежнего – неделя топорного стука.
– Зато у них неверующих нет. Чуть что – сразу еретиками объявляют, и – к палачу.
– Вот палачей у них хватает. Это ты точно сказал.
– Их вера народ вокруг государя сплачивает! – горячился Андрей. – А наша Церковь? Татарские руки лижет!
– Зато людей живьем не жжет. И к крестам не приколачивает.
Гаврила Олексич старался – по возможности, конечно – говорить спокойно и вразумительно, но Андрей разгорячился не на шутку:
– Ее отец князь Даниил Галицкий единения добивается. Единения всех славян для борьбы с проклятыми татарами!
– Чтоб католиков сюда запустить? Они живо Русь в свою поганую веру перекрестят.
– По доброй воле! По доброй воле только!..
Олексич не придал значения этому разговору: болтает влюбленный юнец, ну и пусть себе болтает. А потому и не пересказал его князю Александру, не желая огорчать его. А напрасно. Это были первые ростки того бурьяна, который с трудом, болью и кровью пришлось выкорчевывать Невскому с помощью острых сабель темника Неврюя.
Но то случилось не скоро: бурьяну суждено было еще прорасти. А дела текущие складывались пока вполне благополучно. Сватовство удалось на славу: и старый хозяин был счастлив, и супруга его в чувственный обморок упала от такого известия, и, главное, сама Васса разрыдалась восторженными слезами.
Да, все пока было хорошо. Яростная ссора братьев, после которой Невский, исчерпав все возможности вразумить Андрея, помчался в Орду, чтобы предупредить о готовящемся антитатарском восстании и попросить помощи против младшего брата, была еще впереди…
– В Каракорум поедешь ты, Орду. Так мы решили с советником, – Бату кивнул на скромно помалкивающего Чогдара. – Отдашь Гуюку самый низкий поклон, подтвердишь нижайшую покорность и скажешь, что я не смог приехать только потому, что заболел.
– Ты заболел, мой брат? – с беспокойством спросил Орду.
– Нет, – с неудовольствием отмахнулся Бату. – Я заболею, когда ты будешь поздравлять нового великого хана Гуюка после курултая.
– Хан Бату почувствует это, – счел нужным пояснить Чогдар.
– Ага! – согласился ничего не понявший Орду. – У меня хорошая память, и я все запомнил.
– Ты всегда был для меня примером, старший брат, – проворчал Бату. – Потом ты лично передашь Гуюку мой подарок. Хорошо бы сначала завернуть его в кошму, а потом развернуть перед великим ханом, чтобы она выкатилась к его ногам.
– Кто должен выкатиться?
– Гражина.
– Но я подарил ее тебе от любящего сердца, мой брат.
– Знаю, Орду, но я слишком стар для таких роскошных подарков. Береги ее пуще глаза в пути.
– Я возьму сотню отборной стражи под начальством есаула Кирдяша. Он подарил Гражину мне, я – тебе, а ты – Гуюку. Я все запомнил, великий брат мой.
– Это хорошо, – утомленно вздохнул Бату. – И ты запомнишь все, что скажет тебе мой советник Чогдар перед самой поездкой. Каждое слово запомнишь, Орду, это очень и очень важно. И сделаешь так, как он скажет.
– Да, мой великий брат.
– Это очень важное задание, и поэтому я доверяю его только тебе, старший брат.
– Я все исполню, брат.
– Все, что скажет Чогдар. Слово в слово.
– Слово в слово.
Орду ушел. Бату упорно молчал, сдвинув брови и занавесившись от всего мира непроницаемой броней внутреннего отстранения, в котором монголы не знали равных. Чогдар обождал вполне приличествующее самым глубоким размышлениям время, неторопливо наполнил чаши кумысом и позволил себе осторожно вздохнуть.