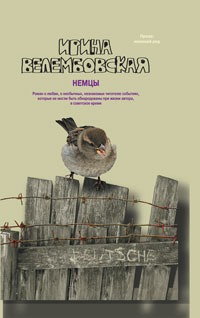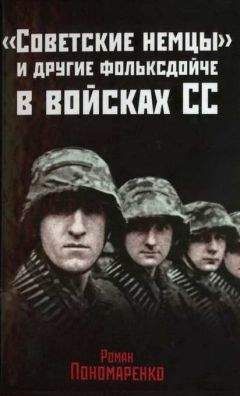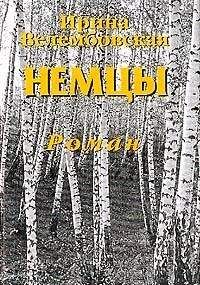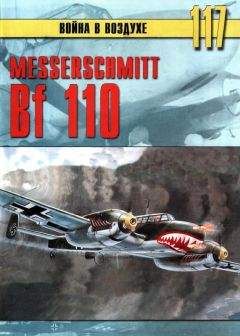прижался губами. Осторожно высвободив ее, Тамара посмотрела на него с укоризной.
Они снова шли молча. Крутом было безлюдно, дул сильный ветер, волну на реке зыбило, а лес гудел протяжно и уныло. Перешли через большой мост, и Тамара стала прощаться. Она доверчиво протянула Штреблю руку:
— Прощай.
Он пристально посмотрел на нее.
— Можно мне один раз поцеловать вас?
Тамара растерялась, а он, испугавшись, что еще мгновение — и она уедет, быстро обнял ее. Его поцелуй был таким горячим, что она не могла на него не ответить. Оба чуть не задохнулись. Но едва он ослабил объятия, Тамара вырвалась и, вскочив в седло, пришпорила лошадь и умчалась в поселок. Штребль опустился на землю и обхватил голову руками.
А Тамара ехала по улице и с горечью бормотала:
— Как я его люблю, черта такого! Удавить меня мало!
Болезненным румянцем горели щеки, и казалось, каждый встречный догадывается о том, что она сейчас целовалась с немцем. Было и страшно, и радостно.
Она въехала во двор лесной конторы. Из окна кивнула Татьяна Герасимовна, словно только Тамару и дожидалась.
— Тома, я хочу у тебя милости просить. Поезжай, дочка, в Карелино… там участок второй месяц без прораба, — чуть растерянно сказала она, когда Тамара, расседлав лошадь, вошла в контору.
— Хоть режьте, не поеду! — крикнула Тамара, изменившись в лице.
Карелино было одним из самых отдаленных участков. Деревенька стояла в глухом лесу, жили там выселенцы-кулаки. Жили глухо, даже без электрического света. Рубили лес и жгли на уголь.
— Резать тебя не время, скоро пост, — попробовала пошутить Татьяна Герасимовна. — Надо, надо ехать, Тома. Ты подумай: кого я пошлю? Влас — трепач, только материться может. Колесник — малограмотный. А там с вывозкой угля невыполнение, у нас механическая мастерская и кузницы под угрозой. Не самой же мне ехать, ведь я кормлю.
Тамара заплакала.
— Не реви ты, дура! — уже строже сказала Татьяна Герасимовна. — Все я знаю. На кого Сашку меняешь? Сашка не парень, а конфета: румяный, чистый, ласковый. А немец твой худущий, черный, глазищи горят, как у волка. На что он тебе? Добра ты от этого не жди!
— Не могу я его разлюбить! — сквозь слезы прошептала Тамара.
— Было разве что между вами? — испуганно спросила Татьяна Герасимовна.
Тамара отрицательно покачала головой.
— Тогда это полбеды! Я это тебе от верного сердца говорю. Ты своего немца легко забудешь.
— Легко не забуду…
— Ну хоть и не легко! Зато после спасибо мне скажешь. Ведь он же не наш, как ты этого, дура, не понимаешь?
— То-то вы и хотите меня в Карелино угнать? — зло спросила Тамара.
— Нет… просто человек мне там нужен. Не сердись на меня, Тома, и поезжай завтра. А к немцу своему в лес смотри не ходи, узнает кто про вашу любовь, несдобровать тебе, да и ему тоже.
Тамаре хотелось сказать Татьяне Герасимовне что-нибудь резкое, но у нее снова задрожали губы, и она выбежала, хлопнув дверью. Домой она не пошла, хотя уже совсем стемнело. Бродила за огородами по берегу Чиса и тихонько плакала злыми слезами.
— Прыгнуть вот в Чис, и кончено будет… Пусть тогда… А то насмехаются, как девчонкой помыкают!
Но черная зыбь реки до дрожи напугала Тамару. Она отошла от берега и села на холодную от росы траву.
— Уеду… он один останется. Мне ведь не себя жалко, а его. Пусть как хотят ругают, а мне жалко его, и все.
На другой день ее собирали в дорогу. Черепаниха пекла лепешки, а Тамара сидела молча, безучастная, заплаканная.
— Не нужно мне ничего, — буркнула она, когда мать спросила, налить ли ей с собой кислого молока.
Провожать пришел и Саша. Тамара приняла его совсем холодно.
— Из-за тебя все, — сердито сказала она.
— Что из-за меня? — не понял Саша.
— Угоняют меня… Я и осенью не вернусь, останусь там на зиму. Женись тогда на ком знаешь.
Тамара готова была всех винить в своем горе — все были злыми, несправедливыми. Только отъехав версты две от дома, когда Саша, провожавший ее, спрыгнул с тарантаса и побежал домой, Тамара вдруг почувствовала, что все, кто остался дома, очень ей дороги. Даже с Сашей расставаться ей стало жаль, и она помахала ему рукой.
В Карелине Тамару встретил старший углежог, черный старик в кожаном фартуке, покрытом сажей. Он бойко объяснил Тамаре, как идут дела, и она поняла, что никакого прораба здесь не надо, старик отлично справляется и сам. Просто Татьяна Герасимовна услала ее подальше от Рудольфа.
Старик указал Тамаре хибарку, которую занимал прежний прораб. Там стояли деревянная койка с сенным матрацем и кривой стол с засохшей чернильницей. Все это было покрыто легким слоем сажи, которая проникала во все щели. Ставни от ветхости скрипели, и казалось, вот-вот сорвутся с петель. Прямо за окнами начинался лес.
Первую ночь Тамара проплакала и встала утром с головной болью и злая. Но утро было такое хорошее! Пели птицы, пахло лесными цветами, черемухой. Она вышла за порог и, вздохнув, сказала сама себе:
— Что ж поделаешь… надо же за дело браться!
В это же утро Штребль нетерпеливо ждал Тамару у дороги. Ее вчерашнее невольное признание: «Я и то плохо сделала, что полюбила тебя» — вопреки всему вселило в него множество надежд. Он улыбался, щурясь на восходящее солнце, радовался лету, теплу, зеленым веткам, поющим птицам, радовался тому, что он еще молод, силен и жизнь почти вся впереди. Когда послышался стук копыт, он сразу бросился навстречу, но, не пробежав и десяти шагов, остановился как вкопанный. Лениво помахивая плеточкой, из-за поворота выехал однорукий Колесник верхом на Тамариной Ласточке. Он поравнялся со Штреблем и весело сказал:
— Здорово, камарад. Гут шляфен?
— Где Тамара?
— Тамарка далеко, — равнодушно ответил Колесник. — Верст, поди, двадцать уж отъехала. А меня к вам опять прислали месяца на два… Ну, чего стоишь? Айда со мной!
Вся прелесть утра исчезла. Не хотелось ни думать, ни жить.
В разгар лета километрах в двадцати от прииска вспыхнул лесной пожар. Горел большой массив леса, вокруг которого были обширные покосы. Погода стояла сухая и ветреная. Ветер гнал огонь на запад, прочь от реки, прямо на покосы. Огонь угрожал сметанным стогам и еще не скошенной высокой траве. Пылал высокий стройный сосняк, корчился и трещал малинник, уже покрытый спелыми ягодами. Глухари, отчаянно хлопая крыльями, покидали свои гнезда. Покосники, которые, вероятно, и были виновниками пожара, метались как безумные, не зная, как спасти сено.
Лаптева разбудили среди