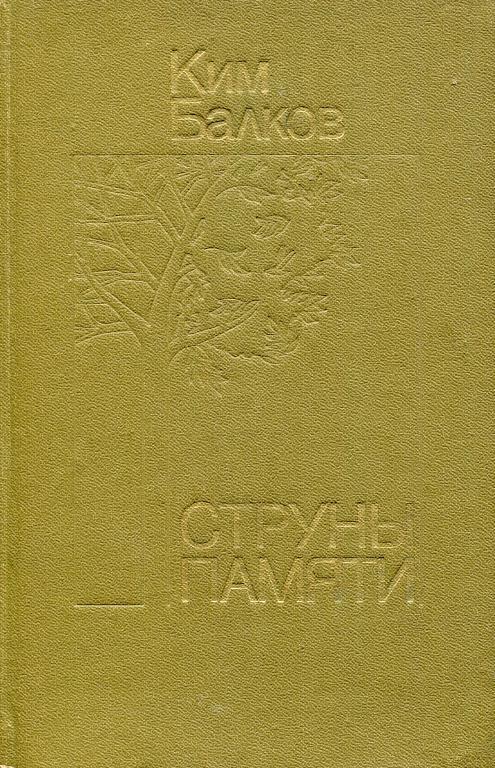о вас от небожителей, и говорили они слова ласковые.
И те, трое, не удивились этому, точно бы знали про уважение, которое питают к ним небожители.
— Добро! — сказал самый старый из них с глазами прозрачными и ясными. В них можно было прочитать все, чем жил старец и к чему тянулся душой, по-детски доверчивой и не разбившейся об острые камни уходящих в пространство времени лет. Но удивительно еще и то, что Богомилу не захотелось прочитать в душе у старца, смущало что-то. Может, та детскость, что наблюдалась в ней, и тихая, ни к чему в мире не влекущая покорность судьбе, точно бы от него ничего не зависело, и, если бы он даже пожелал, то и не смог бы приложить хотя бы и малые усилия для того, чтобы поменять в ней, обогреть ее пусть не деяниями, то хотя бы добрыми намерениями.
А старец меж тем говорил тихим, словно бы даже робеющим голосом:
— В те поры, когда своевольный Песах обрушился на Русь с большим войском и побил много россов, малых и старых, славных мужей и дочерей Руси и пожег домы наши, мы, ныне тут во святом холме обитающие, пошли куда глаза глядят. Не сговаривались, нет, однако ж так сотворилось, что, в конце концов, мы, роженики разных племен, приткнулись к святому холму и стали жить тут в малых жилищах, согреваясь от матери Мокоши, которая есть земля и воздух, и небо. Тут и обрели прежде сокрытое от нас, нет, не то, чтобы Истину, велика она есть и нету к ней дороги смертному, во грехе купающемуся, но сколок с нее, всемогущей. И есть тот сколок часть сердечной сущности человека, ни к чему не влекущегося, и к самому большому богатству. Что есть богатство, как не всесветное зло, вытравливающее из души благость, данную Небом? Труден путь к Ирию, не всяк и во блаженстве пребывающий войдет в него, когда поменяет форму. Впрочем, мы и не стремимся к этому, а только к очищению нашей сердечной сущности, проживая в согласии с миром, пускай и суровым и жестоким. В тиши да во блаженстве неведения иль не взрастится зерно надежды на ту жизнь, которую мы обретем после смерти? Воистину покорность судьбе есть нечто отколовшееся от сути земной жизни, может статься, лучшее, что есть в ней. Не так ли?
Богомил не ответил, хотя многое из того, о чем говорил старец, было близко ему и понятно, принимаемо им. Он не ответил потому, что вдруг подумал: велика есть мера Божьей воли, от нее, всесильной, черпается доброе и разумное, помогающее оттеснять все, что от зла.
Но един ли путь у людей к Истине? Прежде он не задумывался об этом, привыкнув искать лишь в душе своей, уже давно сделавшейся частью небесной сущности. Но, оказывается, можно искать и не пребывая в одиночестве, а в сообществе с людьми. Но чуть погодя засомневался: «Однако ж спустя время не случится ли так, что некто, возвысясь над всеми, станет проповедовать свое понимание мира, утаптывая в слабом, еще не окрепшем уме? Что ж, все пойдут за ним, приняв его веру? А если она окажется не от дальнего света, а от ближнего, колеблемого неустройством жизни? Не вчера сказано: лишь обретя в себе, отыщется та малость, что способна подвинуть в людских сердцах».
Привыкши понимать свое одиночество посреди большого мира как нечто естественное, надобное ему, а еще тем, кто принимает открывшееся ему в иных мирах, Богомил не хотел бы ничего менять тут, и потому с легкой грустью наблюдал за людьми, отошедшими от отчины и теперь не желающими вспоминать о ней, как если бы ее у них и вовсе не было. Невесть от какой тяготы вдруг навалилась на него усталость: день-то только начинался и роса на траве не обсохла еще, — сказал тихо:
— Святослав поднялся против Песаха и ныне пребывает близ холма, который вы считаете святым. Не месть подняла князя, великая обида за Русь.
— То-то поменялось в ближних весях, — сказал старец. — Шумно сделалось и пуще прежнего людно в степи.
Богомил пригляделся к старцу, но и малой перемены не заметил в маленьком сморщенном лице его и огорченно вздохнул.
Он недолго пробыл со старцем, живущим в земляных норах вместе с теми, кто пришел с ним в чужие земли и тут, вдали от отчины, противно тому, что должно сохраняться в душе, хотя бы и отодвинувшей от Руси, обрел надобную для теперешнего существования уближенность к земле-матери, которая прежде выглядела чужеватой, примятой людскими бедами. Но то и чудно, что про все запамятовал старец, одно и осталось на сердце — преданность Мокоши, утихомирившей колобродье в душе. Богомил как бы нечаянно, отвратно от душевной сущности, что во всякую пору искала покоя не только для себя, а и для разных росских племен, старейшины которых не однажды забредали к нему, подумал, что покой не всегда есть благо. Он подумал и на сердце засвербило. «О, Боги, что со мной? Иль в суждениях ваших, касающихся тех людей, что пришли сюда и отыскали тут нужную им для сердечного успокоения обитель, засомневался я? Да мыслимо ли такое? Иль не в самую трудную пору вы приходили ко мне и помогали не сойти с тропы, что ведет с небесной Истине?..»
Он был смущен, и это так не походило на него, было так противно его естеству, что, когда волхв вошел в великокняжий шатер, Святослав, обладающий способностью проникать в глубинную сущность человека, разглядел Богомилово смущение и спросил у него с легким беспокойством:
— Что случилось, о, Владыко?
Богомил не захотел ничего скрыть и рассказал о людях, живущих в земляных норах, издали сходных с волчьими, и кто не собирается отсюда никуда уходить, даже узнав, что их соплеменники поднялись на борьбу с обидчиками Руси.
Святослав со вниманием выслушал волхва, какое-то время пребывал в раздумье, потом привычно для себя не только отвечая на недоумение собеседника, но и чему-то в себе самом, живущем ни от кого не зависимой жизнью, сказал:
— Меж россов велико число тех, кто ищет себя в Истине, однако постигает ее не каждый. Но то и ладно, что всяк носит в себе смущение и невесть когда зародившуюся грусть, в иных народах и вовсе незнаемую, тихую и сладостную, влекущую в неведомые дали. И да будет так до веку.
«Воистину не построить дом на песке, а только на камне, коль скоро хочешь жить в нем», — думал