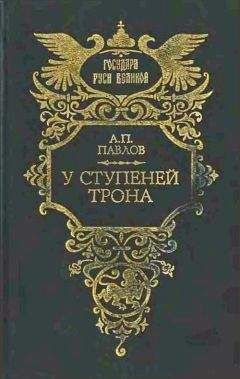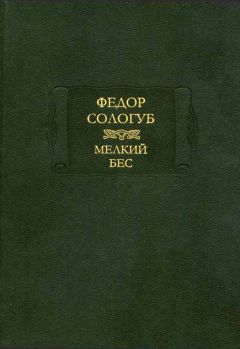— Слушаю, ваше сиятельство…
Анна Николаевна вошла в будуар, подошла к своему рабочему столику и вдруг вздрогнула: рядом с пачкой писем, лежавших на подносе, она заметила свое письмо — то самое письмо, которое она написала, уезжая в Тверь, и велела отдать Баскакову.
— Катя, — недовольным тоном заговорила она, вертя в руках письмо, — что я вам велела сделать с этим письмом?
Горничная вспыхнула и растерялась, заметив раздражение на лице своей хозяйки.
— Вы приказали отдать Василию Григорьевичу, когда они пожалуют…
— А вы и забыли мое приказание?
— Никак нет-с…
— Как нет? — рассердилась Трубецкая. — Но ведь письмо здесь, не тронуто… Вы его и не отдавали…
— Гак Василий Григорьевич не бывал здесь — я же вам доложила.
Анна Николаевна вздрогнула и побледнела.
— Как не бывал? Ни разу со времени моего отъезда?..
— Ни одного разу…
В глазах Трубецкой засверкали искорки испуга, и бледность еще больше разлилась по лицу молодой женщины.
Она хотела что-то спросить, но в это время Катя быстро заметила:
— Да они же вам письмо написали.
— Какое письмо?!
— А вот оно тут лежит, — указала девушка на пачку писем, — его от них принесли на другой день после того, как вы уехали.
Но Анна Николаевна уже не слушала ее. Дрожащими руками перебрала она письма, лежавшие на подносе, с жадностью схватила конверт, надписанный знакомым почерком, вскрыла и принялась за чтение письма.
С первых же строк этого рокового письма она почувствовала, что у нее как бы перестает биться сердце и перехватывает дыхание, а когда она окончила читать — в широко открытых глазах молодой женщины отразился такой ужас, бледное лицо исказилось такой судорогой, словно она почувствовала за своей спиной ледяное дыхание смерти, так беспощадно разрушившей ее счастье, разбившей ее жизнь. Несколько долгих секунд она простояла точно в столбняке, застыв подобно статуе, бессильно уронив руки, в которых замерло ужасное письмо… Затем она вздрогнула всем телом, шатнулась и безжизненным трупом рухнула на пол…
Поднялась суматоха. Послали за доктором. Тот приехал и нашел княгиню в глубочайшем обмороке.
Растерянная, перепуганная прислуга металась из стороны в сторону, и, когда в первом часу дня приехала Софья Дмитриевна, когда она увидала растерянные лица слуг, она сразу поняла, что произошло какое-то большое несчастие. Опрометью вбежала она в спальню, бросилась к постели, на которой лежала ее подруга, все еще не пришедшая в чувство, и со страхом уставилась на старичка доктора, возившегося около Трубецкой.
— Что такое случилось? — шепотом спросила она.
— Княгиня чего-то испугалась и потеряла сознание.
— Но это не опасно?
Доктор покачал головой.
— Кто знает!.. Впрочем, у нее крепкая натура, здоровое сердце… Может быть, все окончится пустяками… — и он опять принялся хлопотать около княгини.
Тогда Софья Дмитриевна набросилась на заплаканную, дрожавшую всем телом Катю.
— Отчего это с нею?
— Не могу знать… Как прочли письмо — так и грохнулись.
— Какое письмо?
— От Василия Григорьевича…
— А где оно? — спросила молодая женщина, рассчитывая в этом письме отыскать причину внезапного обморока Трубецкой.
— Вот, пожалуйте… Я уж у них из рук вынула… — и Катя подала смятое письмо Баскакова.
Софья Дмитриевна с жадностью набросилась на него, побледнела, как смерть, прочтя первые строки, и почувствовала, как вся кровь бросилась ей в лицо, когда дочитала до конца.
— Так вот в чем дело! — прошептала она. — Значит, это я всему виною… — и ее глаза наполнились слезами.
В это время Анна Николаевна шевельнулась, глубокий вздох, похожий скорее на стон, колыхнул ее грудь, и она открыла глаза, в которых все еще стояло выражение ужаса. Скользнув этим взглядом по лицу склонившегося над нею доктора, она перевела глаза на Соню, вздрогнула, приподнялась и воскликнула:
— Соня! Голубчик! Что же все это значит?..
Доктор и Катя поспешили уйти. Софья Дмитриевна подошла к кровати и, заливаясь слезами, простонала:
— Прости меня, Анюта, если можешь… Это я такая проклятая… Это я всех гублю…
— Но что же это значит?.. — опять повторила Анна Николаевна. — Ты ведь знаешь, — прибавила она полным мучительного горя голосом, — он умер… умер…
— Успокойся, родная…
Горькая улыбка прошла по белым, точно восковым губам Трубецкой.
— Успокоиться, — медленно промолвила она, — да, я успокоюсь… Мне больше ничего не осталось… Ты знаешь, как я любила его. Я успокоюсь. Мы недолго будем в разлуке…
Соня вздрогнула и со страхом поглядела на Трубецкую, как бы читая на ее мертвенно-бледном лице ужасное значение этой фразы.
— Полно, Анюта!.. Зачем эти мрачные мысли?..
Анна Николаевна сделала резкое движение рукой.
— Не надо! — нетерпеливо перебила она. — Никаких утешений… никаких слов… Вся моя жизнь была в нем, и без него я жить не могу и не хочу… Но прежде расскажи мне, что это значит… Ведь ты одевалась пиковой королевой… Я не надевала этого костюма. Он понравился тебе, и я тебе его подарила. Что же это значит? Объясни… Я ничего не понимаю…
Софья Дмитриевна печально уронила голову на руки и так просидела целую минуту, как бы собираясь с мыслями, проносившимися в ее голове. Когда она подняла на Анну Николаевну глаза, они были полны слез и какой-то грустной мольбы.
— Если бы ты знала, — начала она глухим, подавленным голосом, — как мне тяжело говорить теперь… Ведь я рассчитывала тебя порадовать своим счастьем… сказав, что моя рана зажила, что мое сердце исцелилось… И вдруг…
— Ты полюбила? — еле слышно спросила Трубецкая.
— Да. И за это, очевидно, наказал меня Бог… Я нарушила свою клятву… я забыла, или, вернее, думала забыть, Мотю — и вот надо мной разразилась кара.
— Не над тобой… — слабо шепнула Трубецкая.
— Нет, надо мной. Твое горе — это и мое горе. Разве я могу быть счастлива, зная, какой ужасной ценой оплачено мое счастье?..
— Но в чем же дело, в чем дело?
— Ты помнишь тот день, когда мы с тобою были на придворном маскараде… когда я упросила тебя подарить мне этот проклятый костюм пиковой дамы, а тебе уступила свой… Вот в этот самый день во дворце я вдруг случайно увидела одного человека. Сначала он был в маске, и, пока я танцевала с ним, меня вдруг охватило какое-то странное предчувствие. Мне вдруг подумалось, что этот человек будет играть заметную роль в моей жизни… А когда он снял маску — это предчувствие только усилилось… Вообрази, что я увидела второго Мотю. Правда, между ними нет разительного сходства, но глаза незнакомца напомнили мне былое счастье и былое горе… Овал его лица вызвал снова забытые воспоминания. И странное дело: вместо того чтоб тотчас же с мучительной тоской убежать от него, вместо того чтоб воспоминаниями снова растравить сердечную рану — я с таким удовольствием слушала моего кавалера, с таким удовольствием провела этот вечер, что даже сама испугалась последствий увлечения… Ты уехала раньше меня; подсаживая меня в карету, он умоляющим голосом просил меня назначить ему еще свидание, и я, совершенно обезумев, сказала, что буду рада увидеть его на следующем маскараде. Со мной произошло что-то необычайное. Я всю ночь продумала о нем, его лицо все время вырезалось из мрака перед моими глазами, а Мотя… память о нем ушла куда-то далеко, далеко… В следующем маскараде мы увидались опять, и, расставаясь с ним, я с ужасом убедилась, что я его люблю… Я ему снова назначила свидание на маскараде у Шетарди… Ты помнишь, на этот маскарад я поехала, проводив тебя, в твоей карете… В этот раз я сняла маску — и мы объяснились… И я была счастлива… Мне показалось, что счастье вернулось ко мне снова… И вот оказывается, что вместо счастья — всех нас ждет только горе…
— Кто он такой? — спросила Трубецкая, внимательно слушавшая рассказ подруги.
— Это — двоюродный брат Василия Григорьевича, Николай Львович Баскаков.
— Я все-таки ничего не понимаю, — сказала она. — Откуда же Вася взял, что я была в костюме пиковой дамы?.. Притом, раз они — родственники и, положим, он видел тебя с ним, — он мог всегда узнать истину…
Она печально поникла головой.
— Я тоже ничего не понимаю, — прошептала Софья Дмитриевна. — Я только вижу, что мне не суждено счастье… что стоило мне только подумать о возможности его — и гроза разразилась и надо мной, и над близкими мне людьми… Проклятая, несправедливая судьба!
— Да, судьба немилостива, — промолвила Трубецкая, — но с ней нельзя бороться. Не будем бороться и мы…
— Но ты, надеюсь, простишь меня? — воскликнула Соня, обнимая свою подругу и прижимаясь к ней головой.
— За что же мне прощать тебя?.. Разве ты виновата?