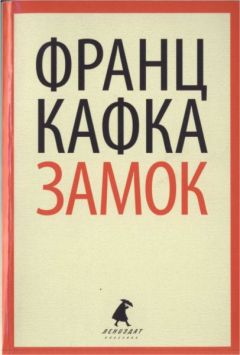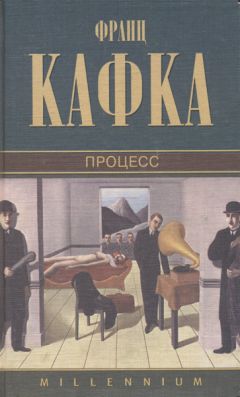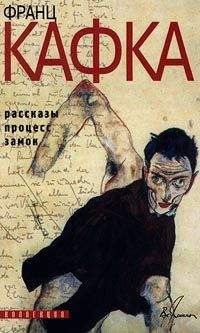не было знакомых. Роберт все кружил и кружил по городу. У всех на уме была одна только война. Но на днях конец его скуке положила одна встреча. Роберту надо было передать Стефану Цвейгу написанное Клаусом письмо. Тот с Манном дружил. На этапе публикации его первого романа прославленный венец поддержал сына нобелевского лауреата даже больше, чем сам Томас Манн. Между двумя писателями – зрелым, почти шестидесятилетним, одним из самых знаменитых в мире, и молодым, жаждущим славы и признания, – установились теплые узы сродни тем, что связывают отца и сына. В своем письме Клаус Манн написал:
13. IX.38
Дорогой Стефан Цвейг!
Эти строки вам передаст мой друг, доктор Роберт Клопшток. Если бы я не знал, что разговор с ним доставит вам удовольствие, то никогда не стал бы его рекомендовать. Человек он очень милый и умный – иначе как бы ему было стать близким другом Франца Кафки? Весьма пристрастен в вопросах литературы и всего, что мы с вами так любим. В Лондоне он чувствует себя немного одиноко, поэтому час общения с вами пойдет ему на пользу.
Как же я сожалею, что не могу приехать туда сам! Над моей поездкой в Англию, которая никак не может обрести конкретные черты, будто довлеет какое-то проклятие! 17-го числа я поднимусь на борт «Шамплейна», чтобы сразу отбыть в Нью-Йорк… Может, напишете мне туда словечко при удобном случае? Мой адрес: c/o William B. Feakins, 500 Fifth Avenue. Свидимся ли мы с вами еще раз до того, как в мире разразится глобальная катастрофа? Теперь и я считаю ее неизбежной, хотя еще совсем недавно не хотел в это верить. Особенно после того, как вчера этот мужлан устроил на радио подлинный шабаш оскорблений. Здесь все очень нервничают, но при этом верят и сохраняют спокойствие. В Берлине атмосфера внешне гораздо более оживленная, но в душах царит больше тревоги…
Всего вам наилучшего, желаю всяческих успехов в жизни и работе.
Ваш верный и преданный
Клаус Манн
Клаус хоть и ценил Цвейга, но стиль его критиковал, считая его слишком напыщенным, а самого венца относил к писателям второго эшелона. Роберт в своих оценках был не столь строг. Его биографии находил в некоторой степени пустословными, однако новеллы искренне любил. Но при этом вынужденно признавал, что Цвейг представлял собой антипод Кафки. Романист XIX века, каким-то образом забредший в век XX, в то время как Франца можно было по праву считать живым воплощением современности. В то же время в его глазах эта лондонская встреча выглядела настоящим событием. Направляясь к дому 47 по Хеллем-стрит, он размышлял: «В двадцать лет я повстречал величайшего писателя века, в сорок – самого знаменитого. Можно сказать, увидел оба берега творческого созидания».
Цвейг принял его как почетного гостя. Они выкурили по сигаре и выпили чаю, приготовленного спутницей писателя – молодой женщиной на тридцать лет моложе его, произнесшей всего пару слов, имя которой напрочь вылетело у него из головы. Венец отнесся к нему со всей любезностью. Роберт правильно делал, что уезжал из Европы, ведь ситуация все ухудшалась и не сегодня завтра разразится война. Аншлюс стал неким подобием могилы. Он уехал одним из первых. В те времена его многие посчитали трусом. А когда он решил продать дом в Капуцинерберге, жена наорала на него и обозвала дураком. Но чтобы предсказать массовую резню, надо было родиться и жить в Вене. И час этой резни уже давно наступил.
– Мечта о вселенском господстве всегда присутствовала в подсознании немецкого народа, – продолжал он. – Ее не Гитлер придумал.
Потом еще больше посуровел лицом и повел свою речь далее:
– Сравнивать одну беду с другой в корне неправильно. Тем не менее мы можем с полной уверенностью сказать, что трагедия австрийского иудаизма по своей жестокости даже превосходит драму немецких евреев. В Германии насильственное лишение их прав и имущества происходило не сразу, а несколько лет подряд. В итоге у них было время привыкнуть и постепенно подготовиться к эмиграции. В Австрии же за одну-единственную неделю, самое большее за восемь дней, роковая буря с корнем вырвала из привычной жизни тысячи человек и погрузила в страшную нищету.
Немного помолчав, он добавил:
– Именно по этой причине им надо как можно быстрее прийти на помощь. От обвинений и протестов пользы никакой. Надо расселить по другим странам сотни тысяч человек, четверть, а то и полмиллиона евреев, у которых на родине из-под ног ушла земля. За всю их историю, насчитывающую две тысячи лет, перед ними еще никогда не стояла такая задача.
Затем венец упомянул международную конференцию по спасению детей и полностью сменил тему, заговорив о своих личных планах, которые вынашивал вот уже несколько недель. Роберту они вдруг показались страшно нелепыми и пустыми.
– Перед лицом интеллектуальной, нравственной необходимости мне в голову пришла мысль выпустить серию недорогих книг. Чтобы каждый томик стоил английский шиллинг. Этот шаг может оказать огромное влияние и помешает отождествлять германскую культуру с пропагандой национал-социализма. Но давайте не терять времени, потому как оно работает не на нас.
В каждом его слове и жесте сквозило волнение.
Но хватит уже о политике! Политика приводила его в отчаяние и несла ответственность за беды этого мира.
– Из письма Клауса следует, что вы близко дружили с Кафкой?
Франца Цвейг читал. Хорошо знал Брода и даже купил у него несколько писем, написанных собственноручно пражским писателем. Но при этом хотел узнать об этом человеке больше, особенно о его последних днях. Роберт на его вопросы отвечал уклончиво. Из вежливости поинтересовался у венца, над чем он сейчас работает. Цвейг ответил, что недавно окончил биографию Магеллана, а теперь взялся за роман, для него в некотором роде первый. Завершил работу над первоначальной версией труда, который, по-видимому, назовет «Опасной жалостью». И махнул рукой на толстую кипу бумажных листов на его столе. Потом объяснил, что из тысячи страниц в конечном итоге останется триста, может, четыреста. Потому что так и писал, выбрасывая все лишнее.
– Любое многословие, любая мягкотелость, все, что выглядит лишним и сдерживает поступательное движение вперед, выводит меня из себя. Чистое, не омраченное ничем наслаждение доставляет только книга, которая на каждой странице держит в напряжении и дает человеку ее закрыть, только когда перевернута последняя… Когда я пишу то или иное произведение в первой редакции, мое перо свободно бегает по бумаге, облекая в слова все, что лежит на душе. И только после этого начинается настоящая работа над