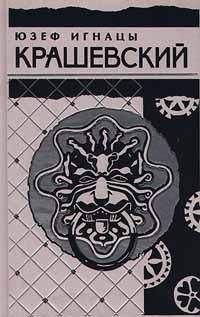– Ваше сиятельство, – отвечал Теодор, – со мной случилось то, чего я не мог предвидеть. Мать моя опасно больна, а я не могу ее оставить. Дед мой умер недавно, и хотя он оставил самое легальное завещание, мое имение взяли захватом.
– Кто? Где? – воскликнул канцлер.
– Я уже писал об этом вашему сиятельству: подкоморий Кунасевич, –сказал Теодор.
– А! Этот мне нужен! – прервал его канцлер. – И я не могу пожертвовать общественным интересом для вашего частного дела.
– Но мне нанесли обиду, которая требует отмщения. Произошло превышение власти…
– Но ведь все это только временное, – сказал канцлер, – в свое время справедливость возьмет верх, а пока вы должны потерпеть. Наследство в руках подкомория…
– Но моя мать! Моя мать, – с тоской выговорил Теодор.
– Да будьте же благоразумны! – крикнул канцлер, – нельзя же достигнуть всего сразу…
Паклевский по старому патриархальному обычаю склонился до самых колен князя канцлера.
– Сжальтесь же, ваше сиятельство, не надо мной, а над моей бедной, больной матерью.
Князь вскочил с места и крикнул с раздражением:
– А я прошу вас, сударь, запастись разумом и терпением! Придет время, разберем и твое дело.
– А я между тем терплю убытки и потери, которых никто не в состоянии мне возместить, – вскричал Теодор.
Канцлер вздернул плечами.
– Оставь меня в покое. Теперь не время думать об этом… Иди в канцелярию и займись просмотром корреспонденции.
Паклевский не двигался с места.
– Я приехал только с поклоном к вашему сиятельству и с просьбой продолжить мой отпуск; моя мать больна.
Услышав это, князь с раздражением бросил на стол бумаги, которые он держал в руках, отвернулся и крикнул повелительно и гневно:
– Даю тебе, сударь, не только отпуск, но и полную отставку. Прошу оставить меня.
Теодор, пораженный таким результатом разговора, означавшим утрату княжеской милости, с минуту стоял, как окаменелый: канцлер сердито и нетерпеливо перелистывал бумаги, из которых несколько упало на пол; Паклевский инстинктивно нагнулся, поднял их и положил на стол. Князь повернул к нему свое лицо, пылавшее гневом.
– Жаль мне вас, сударь, – порывисто воскликнул он, – но двум богам нельзя служить. Это невозможно!
– Ваше сиятельство, – отвечал Паклевский, которому придала смелость безвыходность его положения, – как бы я ни был предан вашему сиятельству, но не могу принести в жертву службе мою мать. Пусть Бог будет мне судьей. Князю взглянул на него и смягчился.
– Ну, так поезжай к матери, – сказал он, – а когда она поправиться, чего я ей желаю и на что надеюсь, возвращайся, не теряя времени, сюда ко мне. Мать имеет более прав, чем я. Возьми из кассы пятьдесят дукатов, –прибавил он, – и не трать времени понапрасну.
Теодор, поцеловав князю руку, хотел уже уходить, но тот бросил ему на стол пачку писем и сказал:
– Хоть эти отправь мне сегодня, а потом поезжай к матери.
Таким образом, несмотря на всем известную суровость князя, Теодору удалось счастливо избегнуть его немилости. Весь остаток дня и часть ночи Паклевский посвятил на писание ответных писем, которые он снес князю и получил полное одобрение; а на другой день утром он уже ехал домой… Теодор проехал через всю многолюдную и шумную столицу, в которой не осталось ни одного свободного уголка, не замечая никого и ничего. Правда, ему очень хотелось узнать что-нибудь о старостине или генеральше и увидеть Лелю; но нельзя было медлить, надо было скорее ехать в Борок.
В течение этих немногих дней егермейстерша, предоставленная сама себе и своим тревожным мыслям, от слез и огорчения расхворалась еще больше, и когда сын вернулся, она лежала в постели с кашлем и лихорадкой. Его приезд заставил ее подняться, но под вечер она снова слегла.
Не будучи уверен в том, уехал ли доктор Клемент в Варшаву или остался еще в Белостоке, Теодор на другой же день поехал верхом в Хорощу узнать о нем и был очень обрадован, узнав, что он только что приехал недели на две. Он послал к нему еврейчика с просьбой навестить его больную мать.
Клемент приехал в тот же день, но в качестве гостя, приехавшего просто повидать своих друзей. Егермейстерша лежала в постели.
– А что же это вы, сударыня, хвораете? – с напускной веселостью заговорил француз, присаживаясь на кровать. – Что это с вами? Весенний катар?
Он выслушал ее, прописал тепло и отдых, а главное – хорошее настроение и, по возможности, удаление от всего, что тревожит. Лекарство, которое все доктора, словно в насмешку, прописывают пациентам.
Когда они вышли потом вместе с Паклевским на крыльцо, доктор нахмурился и на вопрос сына отвечал озабоченно:
– Опасности нет, нет даже болезни, но мало жизни, силы исчерпаны, а я тут ничего поделать не могу, разве Бог поможет… Это может тянуться долго, но облегчить положение трудно. Надо стараться оберегать ее от излишних волнений.
После этого доктор заговорил о делах гетмана и в первый раз признался, что желал бы для него примирения с фамилией, потому что нельзя рассчитывать на какой-либо успех.
– Но у вас есть для этой цели самый лучший в свете посредник в особе пани гетманши, – сказал Теодор. – Кому же, как не ей, удобнее всего поговорить с дядями, с двоюродными сестрами и даже со стольником?
– Да, это правда, – сказал доктор, – но я все же хотел бы, чтобы примирение это совершилось при мужском посредничестве. Женщины ничего не умеют делать наполовину, а тут уж в силу необходимости обе стороны должны будут пойти на половинные уступки.
– Я не могу судить об этом, – отвечал Паклевский, – но, насколько я могу заключить по известным мне фактам, фамилия не удовлетворится половинными уступками. Возможность соглашения уже запоздала, и теперь фамилия потребует от гетмана безусловного присоединения к партии…
Доктор взглянул на него.
– Неужели же наши дела так уж плохи? – спросил он.
– Я ничего не знаю; это мое личное и, может быть, неправильное суждение, – закончил Теодор. – Насколько я мог заключить, зная характер канцлера, который стоит во главе партии, от него нельзя ждать ни малейшей уступки.
– А русский воевода? – подхватил доктор.
– И воевода так же, как и вся семья, добровольно подчинился руководству канцлера: поэтому он сам от себя не начнет никаких действий. Клемент печально опустил голову.
Прекраснейшая весна протекала самым печальным образом для Паклевского: он сидел над актами процесса, или, посидев около матери, целые часы проводил на крыльце, смотря на лес или слушая воркование голубей.
Не с кем было перекинуться словом. Короткие визиты к отцу Елисею не приносили облегченья; старец за всеми преходящими радостями жизни видел всегда черную бездну печального конца всех вещей.
Среди этой пустоты жизни Теодор думал иногда о Леле, но воспоминание о ней приходило и уходило, как свет молнии.
Однажды, когда он сидел, по обыкновению, на крыльце и скучал, заглядевшись на лес, послышался конский топот, и у ворот показался всадник на коне, совершенно не знакомый Теодору. Шляхтич был очень худ, высок, слегка сгорблен, усы у него начинали уже седеть; он сидел на крепком гнедом коне с ременной сбруей и ехал совершенно один, даже без слуг. Заметив его нерешительность и думая, что он заблудился, Теодор подошел к воротам, а всадник, с большим любопытством приглядывавшийся к Теодору, тотчас же слез с коня. Прежде чем они заговорили, они уже почувствовали симпатию друг к другу. У приезжего шляхтича, несмотря на то, что он был уже стар и некрасив, было что-то очень привлекательное в выражении рта и во всем лице, исполненном доброты.
Когда Паклевский подошел к нему, он также сделал навстречу к нему несколько шагов и, не спуская с него взгляда, заговорил таким же ласковым голосом, как ласково было выражение его рта:
– Прости меня милостивый пан и брат, что я являюсь к тебе незванным гостем и беспокою тебя. Смешно признаться, но я – заблудился!!
Он выговорил это в такой добродушной простоте, что можно было поверить ему, если бы слабый румянец, выступивший на его лице, не выдал в нем какого-то беспокойства, возбуждавшего сомнение.
– Меня зовут Макарий Шустак, бывший ротмистр, – с улыбкой говорил старик. – Я приехал в Хорощу, чтобы навестить пана Порфирия Пенчковского, старого товарища по оружию; мне указали дорогу в Ставы, а я, сам не знаю каким образом, заехал сюда.
– Это еще не так в сторону, – сказал Теодор, – но от нас из Борка ведет туда такая запутанная дорога, что лучше всего я дам пану ротмистру проводника.
Говоря это, Паклевский начал, по шляхетскому обычаю, перебирать в уме всех Шустаков, о каких только он когда-либо слышал в жизни, и вдруг ему пришло в голову, что старостина и генеральша были из рода Шустаков.
– А, может быть, пан ротмистр дал бы отдохнуть коню, – приветливо сказал он. – До Ставов порядочный путь, но к вечеру можно поспеть. Правда, у меня здесь убого, и мать моя больна, так что я не могу принять вас роскошно, но если не взыщете, то я всем сердцем готов служить вам. Ротмистр протянул ему обе руки.