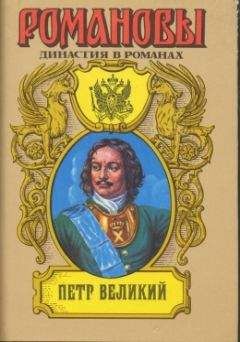Пётр вернулся как-то в Преображенское на рассвете. Он был во хмелю. Его вели, почти волоком, под руки Голицын и Зотов.
В сенях их встретила дозорившая всю ночь Наталья Кирилловна.
– Антихристы! – ударила она изо всех сил Зотова по лицу. – Душегубы!
Зотов нырнул в дверь и исчез. Голицын юркнул за спину Петра.
Потеряв равновесие, царь растопырил беспомощно руки и рухнул на пол.
Наталья Кирилловна встревоженно склонилась к сыну. Её обдал удушливый запах винного перегара и табачного дыма. Она отшатнулась в ужасе и не своим голосом крикнула:
– Зелье курил?!
Пётр попытался что-то сказать, но только лизнул половицу и пьяно икнул.
Точно хлест бича, на щёку князя Бориса легла стремительно рука царицы.
– То ты! Ты загубил православную душу!.. – И вдруг с затаённой надеждою поглядела на Бориса Алексеевича.
– Скажи… Христа для… скажи мне истину: курил царь зелье богопротивное?
Голицын поник головой.
– Курил, государыня. Со мной да с Никитою.
Софья лязгнула зубами:
– Пойдём войною на Крым, а тем временем нас Нарышкины с потрохами сожрут! – И, меняя неожиданно резкий тон на заискивающий, обняла Федора Леонтьевича: – Много служб сослужил ты мне… Сослужи ещё одну…
– Повели, государыня – и, коль нужно, солнце сдеру с небес и к ногам повергну твоим!
– Го-су-да-ры-ня! – презрительно процедила царевна. – На словах государыня, а поразобраться – какая же я государыня, коли не венчалась на царство.
Шакловитый понял, чего от него хочет царевна. Осторожно высвободившись из её объятий, он схватил пальцами кадык и прошёлся по терему. С каждым мгновением выражение его лица становилось все наглей и самодовольней, а глаза загорались хищными разбойными огоньками. Он почувствовал, что настало время действовать в открытую.
– Ну, ладно, – обратился он к Софье так, как будто сидела перед ним не правительница, а простой челобитчик. – Ну, проведаю я у стрельцов, какая будет от них отповедь, ежели бы ты вздумала венчаться на царство, – мне-то какая корысть?
Царевну передёрнуло.
– А без корысти не можешь?
– Не, – просто, от души, ответил Фёдор Леонтьевич. – И рад бы, да претит, потому как я дьяк. Тебе, поди, ведомо, государыня: кой же дьяк воистину дьяк, ежели про мшел не думает!
– А за правду поклон тебе, – через силу улыбнулась Софья и таинственно подмигнула ему. – И неразумен же ты, Федюша! Неужто не догадался, что не об одной себе забочусь?
Она притянула к себе Шакловитого и поцеловала его в заячью губу.
– Да ежели я на царство сяду – вместно ли мне в девицах жить?
Припомнив роль королевы в новом своём сочинении, Софья слово в слово повторила её:
– Свет мой! Сколь сладостно лобзанье сахарных уст твоих! Когда побрачимся, в светлице чистой девичьей (при последних словах дьяк не мог сдержать ехидной усмешки), в светлице чистой девичьей тебя дожидаться я буду, как земля, в снегах потопшая, дожидается челомканья вешнего солнышка…
Она незаметно для себя увлеклась ролью и в порыве вдохновенья опустилась на колени перед Фёдором Леонтьевичем.
Шакловитый был потрясён.
– Ты?! Ты, дщерь государя всея Русии, на коленях перед безродным смердом? – воскликнул он и сам пал ниц.
Это ещё больше вдохновило правительницу. Она закатывала глаза, рычала, как свора освирепевших псов, отдувалась, точно загнанный конь, и забрасывала дьяка потоком напыщенных, цветистых слов.
– Имашь ли ныне веру? – после долгого молчания спросила она.
– Нынче же почну обламывать полки стрелецкие! – клятвенно поднял руку Фёдор Леонтьевич и, горячо облобызав Софью, ушёл.
Вскоре явился с докладом Василий Васильевич. Царевна встретила князя у порога и искренно, от души, обняла его. Польщённый князь благодарно припал к её руке.
– По здорову ль, преславная моя государыня?
– По здорову, мой светик. Чего со мной станется!
Обменявшись любезностями, они уселись под образами. Недавний враг войны, князь с места в карьер горячо заговорил о крымцах.
Правительница хрустнула пальцами.
– Ты всё кипятишься. Как уцепишься за что, так и носишься. А того не подумал, что станется с нами, ежели крымцы нас одолеют? Не быть ли в те поры на царском столе одному Петру?
– Петру? – презрительно поморщился Василий Васильевич. – Да неужто не ведомо тебе, что, опричь потешных, у него и заботушек иных нет? Всех и дел у него, что с конюхами вожжаться!
По лбу Софьи пробежала частая рябь морщинок.
– То так! Воистину бесчестит род наш конюх Преображенский! Но не в нём дело, а в ближних его. Не упустят они часу удобного на меня битвой идти!
Голицын сердечно прижался щекой к груди правительницы:
– Не бойся. Обезмочили Нарышкины. Ничего сотворить не могут. Возьми хоть пригоду со стольником Языковым. Сидит же он в железах за слова, коими обмолвился в Прешбурхе: «Имя-де Петрово видим, а бить ему челом никто не может». Пытались и родич мой, князь Борис, и Лев Нарышкин возмущенье поднять, ан ничего не добились.
После недолгого молчания он вернулся к прерванному разговору о крымцах:
– А гораздо обмыслив, порешил я, государыня, с твоего соизволения, отписать хану Селим-Гирею цедулу.
Царевна взяла из рук князя письмо и внимательно прочитала его.
– Надобно ли Гирею знать, что мы ныне в докончании с ляхами?
– Надо, царевна! – убеждённо подтвердил Василий Васильевич. – Посему я и обсказываю ему, что кто королю будет друг, тот и нам друг, а кто ему недруг, тот недруг и нам.
Он долго, пространно доказывал Софье, что для «дружбы с Еуропой» нужна война с Крымом и Турцией и что весь христианский мир с большой готовностью поддержит Москву в брани с мусульманами.
– А ежели все же одолеют нас супостаты? – тяжело уставилась царевна на князя.
– Не одолеют! Честь моя порукой тому. Не устоять Maгомету противу Христа.
Софья спрятала в руки лицо и глубоко задумалась.
– Ты веришь в победу, Василий? – простонала она наконец.
– Да. Верю. Покуда не верил, сам был супротивником брани.
Не допускающая и тени сомнения вера Голицына в победу невольно передавалась и правительнице.
– Так слушай же, свет мой! – встала она и положила руку на плечо князя. – Коли положено Богом воевать, не властна я судьбу остановить! Что в моей власти, то сотворю! – И с нарочитой напыщенностью объявила: – Повелеваю я тебе быть главным воеводой над всеми полками!
Не ожидавший такой милости князь упал в ноги правительнице. Она приказала ему подняться, поцеловала в губы и трижды перекрестила.
– А обернёшься с победою на Москву – памятуй: Авдотью твою на послух, тебя ж – в церковь венцом брачным венчаться со мной!
На Москву прискакали гонцы от гетмана Самойловича с тревожною вестью о коннице Селим-Гирея, топчущей Украину.
Улицы закипели возбуждёнными толпами. Попы, высоко поднимая крест, полные обиды и гнева, рассказывали «пасомым» об ужасах, чинимых басурманами «над меньшой православной дщерью государей – Малою Русью».
– Нивы сожжены. Храмы разрушены. Кровью христианской насквозь пропиталась земля.
Сняв шапки, слушали убогие людишки безрадостные вести, верили им и глубоко страдали.
Правду знали лишь немногие. Ещё когда царевна только надумала воевать, Иван Михайлович отправил цедулу гетману:
«Ты верой служишь государям, а посему и слово государей к первому тебе. Поеже народу неведомы государственные хитросплетения, гоже, чтобы оный народ на брань шёл охочей, прислать на Москву гонцов, кои государей бы известили, что крымские-де татары вторглись в Малую Русь и чинят великое жестокосердие…»
Самойлович точно выполнил по цедуле и, не задерживаясь, отправил на Москву верных людей.
За Петром приехал в Измайлово Василий Васильевич.
– Великий государь! – отвесил он земной поклон. – Старшой твой брат, а наш великий государь тож кличет тебя.
Он также почтительно поклонился и Наталье Кирилловне.
– И тебя, царица. – И обратился к ближним: – И вас, бояре.
Наталья Кирилловна, едва сдерживая злорадство, покорно сложила на груди руки.
– Поелику глаголы идут о чести Русии, несть места распрям серед нас. Прибудем в Кремль.
С того дня, как неизбежность войны стала очевидной, Наталья Кирилловна преобразилась.
– Конец! Вот когда конец подходит бесчинствам Софьи!
– А ты, государыня, не гомони, – запросто похлопывал Стрешнев царицу по бёдрам. – Чать, знаешь, что подслухов у нас, как клопов в постелях.
Пётр очень огорчился предстоящей поездкой в Кремль, у него было столько неотложных дел, что не только об отлучках, но и о сне не всегда можно было подумать.
Пока в хороминах шли суетливые приготовления в дорогу, царь отправился с Тиммерманом и Измайловской челядью на Льняной двор.
– Что сие? – спросил он, указывая на погнувшийся от времени амбар.