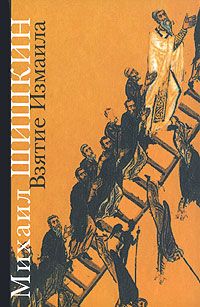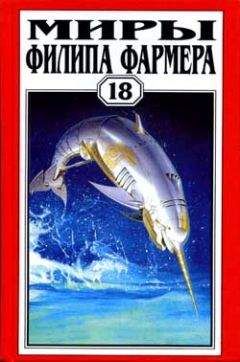Ознакомительная версия.
Однажды она попыталась спросить меня:
— Послушай, Александр, не кажется ли тебе…
Она посмотрела мне в лицо и увидела там тоже маску.
— Что?
— Нет, ничего…
Я знал: именно я рано или поздно должен сказать Кате, и именно меня она возненавидит за это.
Анечка много болела, часто подхватывала инфекции, простуды, все время то кашель, то насморк, бронхит. У нее было слабое сердце. В довершение всего началось воспаление легких. Ни Катя, ни я, мы не спали ночью, сидели у ее кровати. Наша девочка лежала в постельке совершенно синяя. Вдруг я подумал, что если сейчас она умрет, может быть, это будет для нее лучше. И даже не испугался этой мысли. А передо мной боролся за жизнь маленький человек, боролся за каждый вздох — с решимостью жить во что бы то ни стало. Больное сердце бешено стучало под рубашечкой. Полузакрытые глаза. Синее лицо. Синие руки. Анечка хотела жить — и мы должны были ей помочь.
И еще: ее болезни неожиданно сближали ее с другими, обыкновенными детьми. И это почему-то давало мне дополнительные силы.
Помню поразившие меня слова священника:
— Такие дети рано умирают — поспешите с крещением.
Долго держать тайну от Кати не удалось.
У меня была инфлюэнца, и пришел не наш врач, который был со мною в заговоре, а какой-то другой, я его не знал. Я не успел его ни о чем предупредить. И тогда все случилось с Катей. Выписывая рецепт, доктор, поглядев в детскую кроватку, стал говорить, наверно, нам в утешение, что такие дети часто болеют.
И еще он сказал:
— Я знаю, вы мне не можете поверить, но когда-нибудь придет момент, когда вы узнаете, как прекрасна жизнь и с таким ребенком и сколько богатства она вам принесет — это не утешение, это знание, опыт.
Я с ужасом смотрел на Катю. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела в стену. Потом вскочила и, схватившись за голову, выбежала из детской.
Я бросился за ней, но Катя заперлась в спальной. Я стучался, она не открывала. Я прислушивался, но за дверью была тишина.
Доктор тихо прошмыгнул мимо меня к выходу.
Я снова стучал в дверь. Безрезультатно.
Иногда там раздавались только какие-то странные звуки. Потом я понял, что это Катя икала. Через какое-то время у нее началась истерика.
— Катя, открой немедленно, — кричал я, — иначе я сломаю дверь!
Она не отвечала.
— Я все тебе объясню, Катя, но только сперва ты должна выпить успокаивающее.
Я накапал для нее в стакан лавровишневых капель. Она не открывала. Из-за дверей доносились рыдания. Я принялся дергать ручку, пытался выломать замок, но прочная дверь не поддавалась. Я спустился звать дворника.
Когда он поднялся с топором и мы подошли к двери, та оказалась открытой. Я вошел. Катя сидела на диване, растрепанная, с красным заплаканным лицом, закрыв глаза.
Я подошел к ней, присел рядом, взял ее руку.
— Выслушай меня, Катя, прошу тебя! Такой ребенок — не наказание, а испытание. Нужно жить с этим. Мы нужны Анечке. И она нужна нам. И нужно быть сильным. Нужно невыносимое сделать выносимым.
Не помню, что еще я тогда говорил ее закрытым глазам. Нам надо было бы упасть друг другу в объятия, прижаться, выплакаться, положив голову друг другу на плечо — ничего этого не было.
Катя открыла глаза и взглянула на меня откуда-то издалека. Она будто не сразу меня увидела, а когда увидела, то во взгляде ее не появилось ничего, кроме ненависти. Она вырвала свою руку и закричала:
— Оставь меня! Хоть сейчас уйди!
Я пододвинул ей стакан с каплями на край стола и вышел.
Только тогда я заметил, что дворник все еще стоял в коридоре со своим топором. Я дал ему полтину. Он, даже не поблагодарив, молча ушел.
Анечка многое изменила в нашей жизни. Вдруг от нас отвернулись знакомые, вернее, не отвернулись, а просто куда-то исчезли. То все время кто-то приходил, куда-то нас звали — теперь все прекратилось. Не из-за жестокости людей, отнюдь. Они просто не знали, как вести себя с нами, просто боялись чем-то обидеть нас, оскорбить, показаться нетактичными. Может быть, думали: как можно приглашать родителей на пикник или на именины, если у них такой ребенок?
В первые недели особенность Анечки не так была заметна, но когда ей исполнилось шесть месяцев, приговор был вынесен окончательный: ребенок заметно отстал в развитии и никогда не будет нормальным. Анечка была вялой, сонливой и почти никак не реагировала на нас, на окружающий ее мир. Идя по улице или гуляя в парке, я все время заглядывал в чужие коляски, и сердце сжималось при виде налитых, упитанных, гогочущих младенцев, которые швыряли погремушки на землю, чтобы позлить нянек.
Я держался работой, дел становилось все больше, мысли отвлекались, и это было спасительно — не оставаться весь день около ребенка. По-другому было с Катей. Подавленная происшедшим, она все никак не могла вернуться к обычной жизни. То, что раньше наполняло ее существование — университет, книги, опыты, собаки, — совершенно потеряло для нее всякий интерес. Я уговаривал ее вернуться в лабораторию — она сходила туда лишь раз и вернулась в еще более угнетенном состоянии. Не знаю, как встретили ее коллеги, наверно, принялись утешать, во всяком случае, любое соприкосновение с действительностью, в которой жила Катя до Анечки, приносило ей новую травму.
Она погружалась в какой-то прозрачный мешок, стенки которого, невидимые, но прочные, отделяли ее от жизни. Катя пыталась заниматься домашней работой, но все валилось у нее из рук, и она сидела на кухне на табуретке и плакала или могла часами перелистывать в каком-то оцепенении ноты на пианино, не дотронувшись при этом ни разу до клавиш. В ванной она принималась разговаривать сама с собой или с кем-то спорить, что-то выкрикивала. Необходимые, насущные бесконечные дела, вроде расчетов по покупке продуктов, с прачкой и тому подобное, которыми она занималась, все были запущены, у меня до этого просто руки не доходили. Я не понимал и удивлялся, как могут уходить на хозяйство такие большие суммы, но разбираться не было ни времени, ни желания.
У меня был свой мир вне дома — у Кати же старые связи распались, а новые не появлялись. Мне было больно смотреть, как она опускалась. Ее окутало равнодушие, потеря интереса к тому, что раньше было важным. Ей никуда не хотелось выходить, я не мог вытащить ее ни на концерт, ни в театр. Она сделалась неопрятной. У нее плохо стало с памятью. Она вдруг стала интересоваться какими-то юродивыми, которых приводила ей на кухню Матреша. Катя начала верить, что Анечку может вылечить чудо, водица, или глина, или не знаю еще какая дрянь со святых мест, которые ей за большие деньги приносили немытые проходимцы. Катю попросту обирали, используя ее беду.
Иногда она успокаивалась, будто, очнувшись, приходила в себя, становилась весела, приветлива, у нее начинались периоды активной деятельности: снова начинала играть с ребенком, что-то делать по дому, например, затеяла ремонт, обязательно хотела заказать в детскую какую-то особенную мебель, ездила по магазинам и мастерским, но достаточно было случиться какой-нибудь мелочи, как опять Катя срывалась в бездонную пропасть.
Однажды она сидела с коляской в парке и читала одну забавную книгу. Мимо проходила молодая пара. Катя услышала, как женщина, бросив взгляд в коляску, шепнула своему супругу:
— Какой ужас! И она еще может веселиться!
Катя пришла домой в истерике:
— Раз у меня ребенок урод, — кричала она, — значит, я всю жизнь должна ходить с постной рожей?
У наших соседей по дому в квартире напротив родилась вторая дочка. Мы то и дело встречались в парадном. Я видел, как Катя смотрела на их детей. В ее взгляде были зависть и злоба. У младшего их ребенка была болезнь, из-за которой соседи страшно переживали — ресницы росли внутрь, от этого было постоянное раздражение, гной, а мне казалось это не болезнью даже. Как бы я благодарил Бога, если бы у нашей Анечки было бы всего лишь это.
Только Катя в другой раз вроде успокоилась, как на Рождество, перебирая вещи в кладовке, она нашла какую-то игрушку, которую мы купили год назад для будущего ребенка. Заплакала — и снова будто куда-то провалилась.
Ночью ее мучила бессонница. Она часами лежала без сна. О чем она думала в те минуты? Я просыпался, слышал, как она вставала и принималась бродить босиком по ночной квартире, потом звенел графин с водой, слышались жадные глотки. Скоро я заметил, что Катя, чтобы хоть как-то заснуть, стала выпивать по рюмке, а то и по две коньяка.
Безысходность находила выход в озлоблении. Ее агрессия направлялась прежде всего против меня. Я возвращался из суда, и она набрасывалась на меня
— ревновала к тому, что у меня есть отдушина, другой мир, который дает мне воздух жить еще чем-то иным, в то время как она не может никак выйти из замкнутого круга беды. Один раз я пришел домой совершенно счастливый, чуть ли не прилетел — так радовался удачно проведенной защите, очень важной для моей будущности. Хотелось поделиться дома своей радостью, своим маленьким счастьем — это же так понятно, — но Катя именно этой радости не могла мне простить. Я делал все возможное, чтобы не поддаваться, не вступать с ней в пререкания, бессмысленные, никчемные взаимные оскорбления, относиться к Кате с пониманием, как к больному ребенку, но это только еще больше бесило ее, подливало масла в огонь, и, в конце концов, я сам не выдерживал, и нередко все заканчивалось безобразными постыдными скандалами с битьем посуды и криком перепуганной Анечки.
Ознакомительная версия.