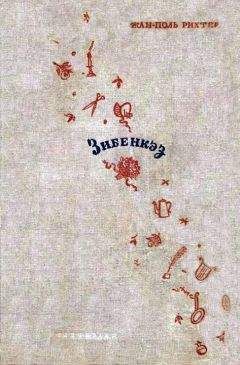Я твердо и крепко убежден, что здесь большинство читателей, подобно Ленетте, будут всплескивать руками над головой и причитать над моим торговым консулом Зибенкэзом и над его ганзейским союзом со всякими торгашами. «Вот шалый человек! Ведь так ты станешь нищим: спустил такие прекрасные вещи!» — Фирмиан каждый раз отвечал ей: «Значит, я должен упасть на колени и выть и, словно еврей, с горя разрывать на себе и без того разорванный сюртук и выдергивать волосы, хотя скорбь часто выщипывает их за одну ночь. Разве недостаточно твоего вытья, разве ты не служишь мне заправской плакальщицей, словно римская praefica? Но я тебе клянусь, жена, так торжественно, словно я стою на свиной щетине:[80] если богу, сотворившему меня столь веселым, угодно, чтобы я расхаживал по всему городу с восемью тысячами дыр в сюртуке, в рваных чулках и в сапогах без подошв, если мне суждено все больше беднеть (тут его глаза невольно увлажнились, и голос дрогнул), то пусть чорт меня заберет и до смерти заколотит кисточкой своего хвоста, если в ответ на все это я не буду петь и смеяться, — а кто вздумает скорбеть обо мне, тому я в лицо скажу, что он глупец. Честное слово! Апостолы и Диоген, и Эпиктет, и Сократ редко имели одежду без дыр и совсем не имели рубашки, — так чего же нашему брату в этот мещанский век сокрушаться о таком пустяке».
Ты прав, мой Фирмиан! Презирай узкое сердце окружающих тебя больших платяных молей и засевших в мебели человекоподобных жучков. А вы, бедняги, читающие теперь эти строки, — сидите ли вы в университетах, или в канцеляриях, или даже в пасторских жилищах, и, быть может, не имеющие не только черной, но и вообще никакой приличной целой шляпы, — возвысьтесь над обабившейся современностью до величия греческих и римских времен, когда благородный человек, словно изваяние Геркулеса, не стыдился пребывать без храма и без одежд; не допускайте лишь, чтобы ваш дух оскудел вместе со средствами, и тогда вы сможете гордо поднять голову к объятому трепетным полярным сиянием небу, на котором, однако, сквозь просветы близкой кровавой бури мерцают вечные звезды!
Оставалось лишь немного недель до Андреева дня и стрельбы, на которую Ленетта возлагала все свои надежды и упования; и все же наступил день, когда она сделалась не только печальной, но хуже того — безутешной.
Это был Мартинов день, когда вслед за изгнанными из Ленеттиного Зальцбурга салфетками должен был отправиться в качестве их предводителя и пресс; но никто во всем местечке не захотел его взять. Единственным якорем надежды оставался один еврей, ибо в Ноевом ковчеге его лавки спасались всякие твари, то есть товары. К несчастью, салфеточный пресс до него добрался как раз в еврейский праздник, который он соблюдал строже, чем всякое данное слово, а потому он сказал, что, мол, завтра посмотрит.
Возвращаясь к нашему адвокату, я поведаю далее, что утром в Мартинов день он не смог получить покупную плату, а следовательно, и традиционного гуся за таковую. Горе Ленетты об улетевшем гусе, предписанном правилами ее вероучения, было неописуемо. Женщины, — которые менее взыскательны к еде и питью, чем завзятые аскеты-философы,[81] и притом уж более к первому, чем ко второму, — все же становятся неукротимыми, если лишаются некоторых съестных припасов, имеющих чисто хронологическое значение; женская приверженность к гражданским празднествам доходит до того, что женщины скорее обойдутся без праздничных песнопений и евангелий, чем без традиционных печений на Рождество, без сырной пасхи на Пасху, без гуся в Мартинов день. Их желудок, словно католический алтарь, требует к каждому святому празднику иной покров. Их каноническое печенье становится для них вторым причашением, которое они, как и первое, принимают не для чревоугодия, а «для порядка». Зибенкэз не нашел в Антонине и Эпиктете таких средств и таких заместителей для гуся, чтобы унять вопли Ленетты, которая все повторяла: «Мы же все-таки христиане и состоим в лютеранской общине, а сегодня у всех лютеран гуси на столе; так было и у моих покойных родителей. Но ты ни во что не веруешь». — Однако этот неверующий еще под вечер еврейского праздника потихоньку пробрался к еврею, содержавшему для иногородних единоверцев отличный постоялый и птичий двор с тощими и жирными гусиными печенями. Войдя в дом, Зибенкэз вынул из кармана древнееврейскую Библию малого формата и, положив ее на стол, сказал хозяину, что рад встрече с человеком, столь усердно изучаюшим божественный закон: но таковому он, мол, предпочитает совсем отдать свою Библию, не прося за нее ни полушки, тем более, что ее, непунктированную (без гласных значков), он вряд ли сможет бегло читать, так как ему это не удается и с пунктированной. «Что касается моего салфеточного пресса, — добавил он и извлек его из-под сюртука, — то я охотно оставил бы его здесь, так как он обременяет меня. Дело в том, что по некоторым причинам я хотел бы взять из вашего хлева одного гусака — пусть даже самого жесткого; если вам угодно, считайте его милостыней, которую вы мне дали ради святого праздника. Когда я приду за прессом, то мы сможем дальше поговорить об этом деле».
Так, чтобы не стеснять свободу совести своей жены, он достал-таки спорного гусака, который чуть было не сделался предметом религиозной полемики и раскола; и на следующий день оба докторанта мартиниста-лютериста подкреплялись гусятиной и подкрепляли ею Шмалькальденские статьи, — подобно тому, как железные Шмалькальденские статьи вывоза нередко служили для защиты теологических; и Капитолий лютеранского вероисповедания, как мне кажется, легко был спасен этой птицей (изжаренной на аутодафе).
Но в это самое утро наверх к Зибенкэзу взобрался парикмахер, которого он всегда очень рад был видеть, — но только не сегодня, ибо вчера, в Мартинов день, как известно, требовалось внести квартирную плату за три месяца. Куафер объявился, словно безмолвный вексель на предъявителя; но он учтиво ничего не потребовал, а лишь сообщил, что в понедельник, перед Андреевым днем, состоится большой публичный аукцион, и что буде господину адвокату угодно собрать какие-либо вещи на продажу, то о сем надлежит уведомить его, Мербицера, как постоянного аукциониста, уполномоченного Большим и Малым советом.
Едва он спустился обратно с лестницы, как Ленетта стала изъявлять величайшие, но тишайшие признаки горя: «он открыл ей глаза тем, что говорил о вещах, и она видит, что уже все люди в доме знают об их беспорядочном хозяйстве». Непонятно было, как женщина могла надеяться, что до сих пор никто этого не заметил: ведь бедняки первые угадывают бедность. Впрочем, и Фирмиан постыдился сказать куаферу, что до сих пор сам себе выдавал полномочия как аукционисту своих собственных вещей. Тут он почувствовал, что перед одним человеком и перед бедняками больше краснеет за свою нищету, чем перед целым городом и перед богачами, — и он гневно осыпал проклятиями пустую людскую суетность, из-за которой пустота брюха перемещается в сердце и голову.
Даже читателю путь к Андрееву дню, сплошь обсаженный чертополохом, не может показаться более долгим, чем моему герою, которому к тому же приходится брать руками и вырывать все эти чертополохи; сад его жизни все более напоминал настоящий английский, где допускаются лишь колючие и бесплодные, но отнюдь не фруктовые деревья.
Каждый вечер, отодвигая задвижку решетчатой кровати, он с величайшим удовлетворением говорил своей Ленетте: «Вот уж осталось только двадцать (или девятнадцать, или восемнадцать, или семнадцать) дней до стрелковых состязаний». Но теперь парикмахер и аукционист все отравил: хотя вечера были долгие и темные и весьма удобные для бедных залогодателей и прикрывали стыдливую голую нищету этих бедных людей, Ленетта стыдилась соседей. Фирмиан, одновременно удивлявшийся неистощимости своей головы и своего хозяйства и всегда говоривший себе: «Любопытно знать, что мне сегодня придет на ум и как я выпутаюсь из этого дела», — Фирмиан через несколько дней после Мартиновской трапезы снова наметил две хороших вещи, а именно — длинный ливер и широкую, большую лошадь-качалку (оставшуюся с его детских времен). «У нас нет ни бочки, ни ребенка» — сказал он по этому поводу; но жена взмолилась. «Лошадка, — сказала она, когда лошадку предстояло закладывать в залоговую карету, — и ливер слишком торчат из фартука и из корзинки, и при лунном свете каждый может их увидеть, — ради бога, не срами меня».
И все же нужно было что-нибудь отнести; Фирмиан сказал странным, резким и растроганным тоном: «Да будет так, — судьба, подобно Прицелю,[82] барабанит снизу по барабану, и овес взлетает вверх, — придется уж нам жрать с барабанной кожи».
«Все, что хочешь, — сказала она, выбившись из сил, — но только, чтобы не торчало, — дай, я сама поищу». Она стала искать, выдвинула верхний ящик комода, вынула букет искусственных цветов и, подняв его, сказала: «Лучше вот это!» — и не заплакала и не улыбнулась. Фирмиан часто его видел, но так как сам в прошлый новогодний день их обручения подарил ей как своей нареченной этот букет и так как он был столь романтически красив — белая роза, два красных бутона роз и обрамляющие незабудки сочетались с пестрым пасленом увядшей флоры, — то все фибры чувствительного сердца Фирмиана возроптали против продажи этого яркого декоративного блюда, уцелевшего со времен довольства и веселья. Смиренное, безропотное пожертвование последних цветов с ее груди потрясло его грудь так сильно, словно в ней стеснилась тысяча тяжких вздохов. «Ленетта! — сказал он, бесконечно умиленный. — Ведь это цветы с нашего обручения».