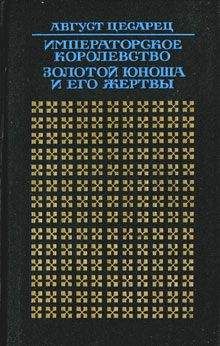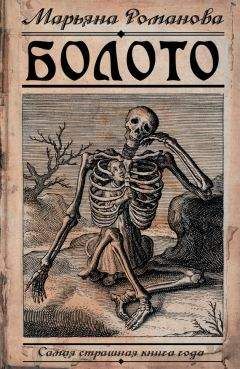— Принеси же ему! Да и я не откажусь! — надменно улыбаясь, заглянул Панкрац в глаза Йошко и повернулся к Кралю. — А кто это вам оплеуху закатил?
В дверях другой комнаты, застыв в гордом презрении, стоял Васо. Теперь же, надув губы, он повернулся, собираясь выйти.
— Он? — Панкрац понял это по взгляду Краля, — Могли бы ему сдачи дать! Если вы еще этого не сделали, то скоро будет республика, тогда и покажете им! А сейчас садитесь, Краль! Я подойду к вам, и мы снова чокнемся! — улыбка исчезла с его лица, а сам он постепенно удалялся от него. Бросив взгляд на старого Смуджа, он вошел в другую комнату и там очень громко и весело со всеми раскланялся, — Добрый вечер, господа!
Йошко уже нес Кралю вино. На Панкраца даже не взглянул, более того, как бы нарочно отвел от него глаза. Васо скользнул по нему взглядом и отвернулся.
— Хи-хи-хи! По такой грязи! — захихикал Ножица, втянув голову в плечи. Единственно капитан сердечно приветствовал его, но и он, в конце концов, стал более сдержанным, ибо Панкрац вместо того, чтобы протянуть ему руку, повернулся в другую сторону и начал раздеваться.
— Что за черт вас принес, какая такая необходимость! — капитан смотрел на перепачканную грязью одежду Панкраца, не переставая улыбаться.
— Я рассчитывал найти на станции какую-нибудь машину! Мой добрый дядя Йошко не удостоился подвезти меня на автомобиле! — Панкрац сел, вытянув ноги. — А приехать чертовски было нужно! — усмехнулся он и обернулся к старому Смуджу, приковылявшему в комнату; лицо у старика было серым, беспокойным, он сглатывал слюну.
— Сегодня ночью я все деньги проиграл в карты, а завтра истекает срок выплаты долга.
От долгого сглатывания старый Смудж стал задыхаться, лицо передернуло судорогой. В другой комнате раздался звон рюмок. Это чокались Краль и Йошко. По стеклам окон барабанил дождь, а на улице стояла черная, глухая ночь, затаившаяся, подобно призраку. В наступившей тишине слышалось только, как зевает Панкрац да как из соседней комнаты жена Смуджа зовет к себе Панкраца.
— Ах, маменька все еще лежит! — Панкрац поднялся, потянулся, позевывая, и с ухмылкой, с какой рисуют смерть, отправился туда.
Комната, куда вошел Панкрац, была сплошь заставлена старинной мебелью всех стилей, вернее, без всякого стиля, но выглядело это более чистым, чем все остальное в доме. Две высоких кровати, одна разобранная, занимали добрую ее половину. Перед ними на противоположной стене, на небольшой полочке между ярмарочной картинкой, изображающей Христа с терновым венцом на голове и деву Марию с пронзенным сердцем, горела лампада, вернее, обычный фитиль, опущенный в красный стаканчик с освященным маслом. Над лампадой, между картинками, на почетном месте висел старый, потускневший от времени Б-кларнет. В красном свете, отражаемом лампадой, его медные клавиши тоже казались красными, будто минуту назад кто-то перебирал по ним окровавленными пальцами.
Лампаду зажигали только по большим праздникам или когда в доме кто-то тяжело болел. Что же касается кларнета, то он висел годами и никто к нему не прикасался с тех пор, как старого Смуджа серьезно прихватила астма. Кларнет о многом мог бы поведать — с ним была связана молодость Якова Смуджа, когда тот еще не был ни торговцем, ни владельцем трактира, а был обычным кларнетистом, игравшим в оркестре как старого, так и в первый год нового загребского оперного театра. Музыкантом он стал исключительно благодаря старому учителю народной школы. Неся службу в маленьком, скучном городке, этот учитель до старости остался верен своему увлечению, кларнету, и поскольку дружил с отцом Якова, местным торговцем, а в самом Якове открыл талант, то и его увлек своим искусством, а попутно обучил и нотной грамоте, поначалу дав ему свой инструмент. Вскоре Якову это оказалось весьма кстати, ибо когда его отец разорился, а спустя некоторое время умер, то, будучи еще совсем юным, с едва пробившимися усами, он уже собственным кларнетом смог зарабатывать себе на жизнь. Несколько лет выступал с разными любительскими хорами по курортам, пока ему не улыбнулась фортуна. Однажды, отдыхая на водах, его приметил какой-то служащий загребского театра, куда затем и пригласил на работу. Обо всем этом, о своем славном прошлом, как и о некоторых сольных партиях, особенно в операх Верди, старый Смудж часто и со слезами на глазах любил вспоминать и вспоминал до сих пор. Но и тогда, когда он предавался воспоминаниям, ему ничего не стоило взять в руки кларнет, — впрочем, так было раньше, еще до появления первых признаков астмы, — только для того, чтобы заманить и развлечь посетителей. Так, вместо служения музам, он стал служить мамоне.
Причиной его перехода от служения музам к служению мамоне явилась как неудовлетворенность жалованьем оркестранта, так и врожденная жадность, унаследованная им от отца, который разорился, погорев на какой-то спекуляции. Скорее же всего, толкнуло его к этому знакомство и женитьба на женщине, считавшей, что своей музыке он может найти более выгодное применение, если будет играть в трактире для себя и гостей, чем в театре для «обезьян», под которыми подразумевала как артистов, так и публику. С госпожой Резикой — так ее звали — он познакомился на вечеринке у одного каноника, не отказывавшего себе в мирских удовольствиях, куда был приглашен как музыкант. В роли хозяйки дома выступали госпожа Резика, пышная молодая вдова провинциального служащего таможни. Поскольку уже на следующее утро после пьянки, когда каноник ушел к ранней обедне, молодому Смуджу удалось оставить ей о себе приятные воспоминания, то их отношения продолжились, а после внезапно последовавшей смерти каноника они окончательно бросили якорь в уютной гавани гражданского брака. В этот брак, помимо своих пышных бедер, красноречия и предприимчивости, госпожа Резика привнесла и определенную сумму денег, завещанную ей каноником. Именно деньги стали последним доводом, склонившим Смуджа послушаться своей «лучшей половины» и из рядового музыканта превратиться сначала в хозяина перекупленного трактира, а потом и мясной лавки. Поначалу они жили в городе, но не прошло и десяти лет, как госпожа Резика, несмотря на то, что дела в городе шли неплохо, пожелала перебраться в село, купить землю и завести хозяйство со свиньями, курами и гусями. Смудж не противился, и они переселились сюда, где живут и по сей день. Здесь, на перекрестке двух оживленных дорог, дела пошли настолько хорошо, что их дом стал самым богатым в общине.
Еще в городе родилось у них трое детей: сын Йошко и две дочери, Пепа и Мица. Был и четвертый ребенок, Луция, но ее Смудж, как и госпожу Резику, вместе с капиталом, оставленным по завещанию, унаследовал от старого проказника каноника. Эта Луция и была матерью Панкраца. Поскольку в ней не текла кровь Смуджа, а своим легкомысленным поведением она доставляла ему массу неприятностей, то Смудж довольно рано выдал ее замуж за городского сапожника, которому Луция приглянулась на сельской ярмарке, когда в палатке отчима разливала вино, а он в своей напротив продавал сапоги. Луция отказывалась выходить замуж, впоследствии и отомстила за это, изрядно попортив кровь и без того больному туберкулезом мужу своими прелюбодеяниями, для которых у нее были неограниченные возможности, ибо жили они вблизи военных казарм. В конце концов, не терзаемая никакими угрызениями совести, она свела его в могилу, которой, правда, спустя несколько лет не избежала и сама; после встречи в лесу за казармой с очередным любовником она, заболев воспалением легких, умерла.
Десятилетний Панкрац, — это была его фамилия, а иначе в доме его никто еще с раннего детства не звал, — остался на попечении бабушки и Смуджа, и поскольку был слишком ленив, чтобы овладеть каким-либо ремеслом, но отличался сообразительностью, старики оставили его в городе учиться. Но и здесь его одолевала лень, к этому добавилось и непристойное поведение, и он переползал из класса в класс, как гусеница с листа на лист. В прошлом году сдал выпускные экзамены, прибегнув и к подкупу, и к взяткам, и записался на юридический факультет.
Годы его учения пришлись в основном на военное и послевоенное время; это был период, говоря коротко, когда жизнь, окруженная атмосферой смерти, но не успевшая привыкнуть к ней — так идиллично было ее мирное прошлое, — оказалась перед необходимостью осознания своей бренности, а осознав ее и заразив этой мыслью все классы, устремилась в погоню за наслаждениями, хотя бы и ценой крайней непорядочности и бесцеремонности. Эта антидуховная и сугубо гедонистическая черта эпохи нашла в Панкраце благоприятную почву еще и благодаря его воспитанию, полученному в родительском доме, где мать буквально у смертного одра своего мужа устраивала любовные оргии, а сына, тогда еще малолетнее дитя, задаривала, чтобы склонить на свою сторону и настроить против отца; в довершение ко всему она его и похвалила, когда тот вместо того, чтобы подать умирающему отцу воды, показал ему язык. Ничуть не лучше был и дом деда, куда он приходил обычно по большим праздникам. Вместе с опытом, приобретенным здесь, — он и сам участвовал в махинациях деда, — еще не сложившийся характер юноши вобрал в себя все самое гнусное, оставаясь бесчувственным ко всему, что не приносило выгоды. Поскольку и в городе среда, в которой он вращался, была в основном той же, если не хуже, чем в доме деда, то со временем он стал злобным, язвительным и похотливым, сознавая, что иначе нет смысла жить. Праздность — вот что было на самом деле смыслом его внутренней жизни, и он старался заполнить ее различными внешними атрибутами, модной одеждой, интересом к спорту, любовными авантюрами, пьянками и игрой в карты. А поскольку среда эта была насыщена политическими дискуссиями, не избежал их и он. Самым странным было то, что поначалу он играл роль убежденного коммуниста. В то время коммунистическое движение у нас переживало период подъема{8}, и он наивно полагал, что в случае его быстрой победы сможет извлечь для себя определенную выгоду; об этом говорила одна интересная деталь: Панкрац перед дедом и деревенскими родственниками распространялся о коммунизме и хвастался своей революционностью, вернее, этим он запугивал их, чтобы выудить деньги, обещая в случае победы революции защитить их от экспроприации. Так довольно долго ему удавалось их обманывать, особенно далекого от политики деда. Когда же коммунистическое движение пошло на убыль и открыто быть коммунистом стало опасно вследствие начавшихся гонений, Панкрац, деятельность которого ни разу от слов не перешла к делу, быстро спрятался в свою раковину и только из чувства противоречия, да чтоб пощекотать нервы родственникам, выдавал себя, а чаще позволял выдавать себя за коммуниста; так это и осталось по сей день. В действительности же он давно, и все в доме об этом знали, вступил в Ханао{9} и занял там видное место. Сюда его привела простая причина: он мог, пользуясь рекомендациями типа «бедный, но патриотически настроенный студент» доить деньги из таких же «патриотически настроенных» торгашей и банкиров. И все же главным денежным источником для него оставались дед и бабка; причина же, по которой, не прибегая к угрозам, то есть, не упоминая об обещаниях, связанных с коммунизмом, ему удавалось разживаться у них деньгами, крылась в печальной истории, случившейся в доме незадолго до поворота событий.