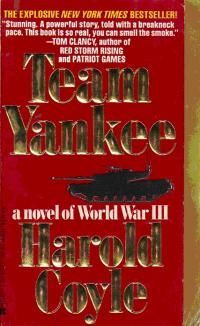С первых минут знакомства я почувствовал, что отношение командира ко мне как бы окрашено предрасположенностью к неудовольствию.
Дело простое. Есть люди, болезненно реагирующие на малейшее ущемление их привилегий, особенно если речь идет о власти. Командир должен быть человеком властным, но мелочное беспокойство, хлопоты о своих правах — это совсем другое. Б-ва не устраивала моя как бы экстерриториальность, то есть не полная, только в рамках устава, от него зависимость. В его обращении со мной не было, как у других офицеров, ни любопытства, ни приветливости, ни простоты. Он смотрел на меня так, будто я написал на него «натовскую» характеристику или выкрал ее и специально принес в Управление кадрами Министерства обороны. Рядом со мной он все время что-то демонстрировал: то занятость, то рассеянное безразличие, то какое-то особого рода терпение. А уж напряженное внимание, с каким он выслушивал мои к нему немногие обращения, создавало впечатление, будто ему приходится мои слова переводить с какого-то языка на родной ему русский. Я заметил, что люди этого типа в разной мере, но обязательно заражены сознанием своей исключительности, даже не предполагая, что этакая «исключительность» как раз и не редкость, типовая.
По предписанию я был назначен командиром взвода средних танков. Это были прошедшие огонь и воду, подустаревшие уже «Т-62», чья ходовая часть только и могла выдержать каменисто-скалисто-болотистое бездорожье. Новые танки создавались под европейский театр, вдогонку натовскому «леопарду», последние наши модели уже в чем-то и превосходили «леопард». Северянам же оставалось только рассуждать и догадываться, как бы повела себя металлорезина, последняя мода в танковой «обуви», в условиях тундры-мундры.
То, что я прибыл в полк по директиве Генштаба, командир чувствовал гораздо острее, чем я.
Люди, делающие карьеру, — народ по большей части осмотрительный, далеко смотрящий и настороженный, так что любопытство ко мне у подполковника Б-ва, конечно, было. Зачем появился этот «киношный» лейтенант? Глаза? Чьи?
Впрочем, может быть, во многом я и сам виноват. С людьми, пребывающими в карьерном напряжении, нужно шутить очень осторожно, а лучше и вовсе не шутить. Буквально в первые же дни, увидев у меня в руках записную книжку, он спросил как бы между прочим: «Что это вы там все время записываете?» — «Только то, что можно, товарищ полковник, что записывать нельзя, держу в голове». Может быть, как раз после этого он стал держаться от меня подальше?
Не знаю, уж как смотрелся наш полк с «натовской» вышки, из Норвегии, но в глазах и отчетах инспектирующих групп, постоянно наведывавшихся из Мурманска, Петрозаводска, Ленинграда и Москвы в наши богатые ценными породами рыб края, мы выглядели очень неплохо.
Они видели успехи самого северного, надо думать, в мире танкового полка, а мы делали вид, что не замечаем, как верной оценке нашей тактической выучки, технического и хозяйственного состояния полка помогали и семга, и новенькие «меха» — непродуваемые зимние куртки на великолепной романовской овчине, которых так не хватало в экипажах, которые изнашивались дотла и которые с такой охотой принимались в качестве «маленьких заполярных сувениров» инспектирующими ватагами.
По календарю на дворе лето, июль, да, видно, на полюс, или где там «кухня погоды», эта новость еще не пришла. Дни были похожи с утра на раннюю весну, а к вечеру на позднюю осень. По календарю — полярный день, солнце не опускается за горизонт, но небесный полог задернут так плотно, что на земле сплошные серые сумерки. Изредка налетают заряды со снегом, но снег бросала скупая рука — по-видимому, главный запас в груженых тучах предназначался для какого-то еще более гиблого места.
Но боже сохрани от одностороннего взгляда на пургу, метели и злые ветры, для кого-то это беда, а кому-то и славу может надуть.
Вот нынешней зимой, к примеру, разыгравшаяся на три дня февральская метель, о чем мне рассказывали по моде времени как о событии, произошедшем не без участия незримых сил, акции нашего полка сильно подскочили вверх, а положение командира укрепилось настолько, что его не смогли пошатнуть интриганы с сопредельной стороны.
Памятной всем в полку февральской пургой занесло к нам корреспондента «Красной звезды», ехавшего из Корзунова в Печенгу, да заблудившегося. Едва пурга началась, у него в голове родилась замечательная строчка, он держал ее в памяти и жалел, что не может записать в подпрыгивающем на снежных ухабах «уазике»: «…казалось, вся земля сдвинулась, перемешала все краски и куда-то понеслась, чтобы после метели явиться перед нашими глазами в новом обличии…» Поняв, что водитель сбился с дороги, корреспондент перепугался, пурга поднялась нешуточная, и он в какую-то минуту даже подумал, что ему уже не удастся не только напечатать замечательные строки, но и просто увидеть землю в «новом обличии» после метели. Огни в расположении нашего полка оказались для них спасительными. Когда поздним вечером дорогого гостя вели через переметенный снегом плац из офицерской столовой на квартиру, тот обратил внимание на светящееся окно в длинном одноэтажном здании штаба полка на дальнем краю плаца.
Ни пурга, ни пережитый страх, ни обстоятельный ужин не притупили наблюдательность опытного газетчика. «Это чье окно там горит?» полюбопытствовал военный корреспондент. «Это кабинет командира», — честно сказал НШ и подтвердил замполит, сопровождавшие основательно согретого путника.
Через три недели весь полк из рук в руки передавал «Красную звезду». Подвал с великолепным названием «Негаснущее окно» читали даже вслух детям в школе. Вот как про нас пишут!
А свет в кабинете в тот памятный февральский день подполковник Б-в просто забыл погасить. У него разболелись зубы, и после обеда в штаб он не вернулся. Не смог даже встретить свалившегося на них корреспондента лично, но «меха» приказал ему вручить от своего имени.
Статья, отдающая должное нашему командиру, заканчивалась впечатляющими словами: «Под завывание полярной вьюги казалось, что жизнь в полку замерла, остановилась. Но несли свой неусыпный наряд караульная и дежурные службы, (попробовали бы не нести!), — да светилось негаснущее окно в кабинете командира в штабе полка».
После этого до конца марта командир, уходя домой, больше не гасил свет в своем кабинете, потом, с наступлением полярного дня, неугасимая лампада уже не могла быть никем замеченной и как бы сама собой погасла. Но свет от той, не выключенной в феврале, лампочки кое-какой ореол вокруг головы командира поддерживал.
Едва ли я был в силах развеять недоумение командира относительно моего прибытия в танковый полк, если людям куда более мне близким, и дома, и на киностудии, где я уже отслужил полтора десятка лет, мне сколько-нибудь убедительно так и не удалось объяснить, зачем это я убываю, и уже не первый раз, в армию, да еще в столь непроглядно удаленную.
Да разве можно кому-нибудь объяснить потребность в одиночестве. Жена не поймет, потому что, прежде чем понять, обязательно обидится, коллектив не поймет, потому что кинематограф — дело коллективное и творчество в кинематографе коллективное. Я понимал, что и так роняю себя в глазах наблюдательных сослуживцев, чрезвычайно дорожащих «творческим коридором», а был и такой на «Ленфильме», и «творческим буфетом», и вообще творческим творчеством, но отказать себе в очередном бегстве в армию уже не мог.
От кого бежал?
От всего и от всех, и потому чувство необыкновенной легкости охватывало и душу и тело, как только трогался поезд на Мурманск с Московского вокзала. Но для подтверждения всей полноты моего бегства мне нужно было прыгнуть в башню, захлопнуть люк и довернуть запорную рукоятку. Вот так! Теперь можно было спокойно откинуться и вздохнуть полной грудью. Этот миг чрезвычайно краток, считанные секунды, потом нужно сразу подключиться к ТПУ,[1] выйти на ротную связь или на связь с «вышкой» и т. д. Но дело было простым, ясным, недвусмысленным и требовало понятных усилий. Попал — значит, попал. Промазал стало быть, промазал. А в кино? В кино «попал — не попал» — это не факт, а мнение, суждение, впечатление. Игру, как говорят футболисты, делает судья. Так добро бы еще один судья, ну два боковых, а то ведь как галок на березе. Если бы тебе в левый наушник давали при стрельбе горизонтальные поправки, в правый — вертикальные, по ТПУ еще что-нибудь механик-водитель советовал, а с «вышки» бы по ходу, прямо на директрисе, меняли дистанцию до цели… И можно только изумляться тому, что при всех этих условиях, делающих простую стрельбу из танка практически бессмысленной шумихой, в кино-то умудрялись попадать! Так и я же по должности на киностудии был в числе тех, кто дает поправки «на ветер». Регламентированная, тяготеющая к машинальному исполнению во многих своих ритуалах армейская жизнь предрасполагает к внутренней свободе и сосредоточенности. Расписанная заранее, она ждет и требует от тебя так немного. В этой запрограммированной и предсказуемой жизни я отдыхал со всей возможной полнотой от жизни, программу которой приходилось составлять и корректировать по обстоятельствам самому, а исполнение ее было непредсказуемым, поскольку от тебя не зависело даже наполовину.

![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)